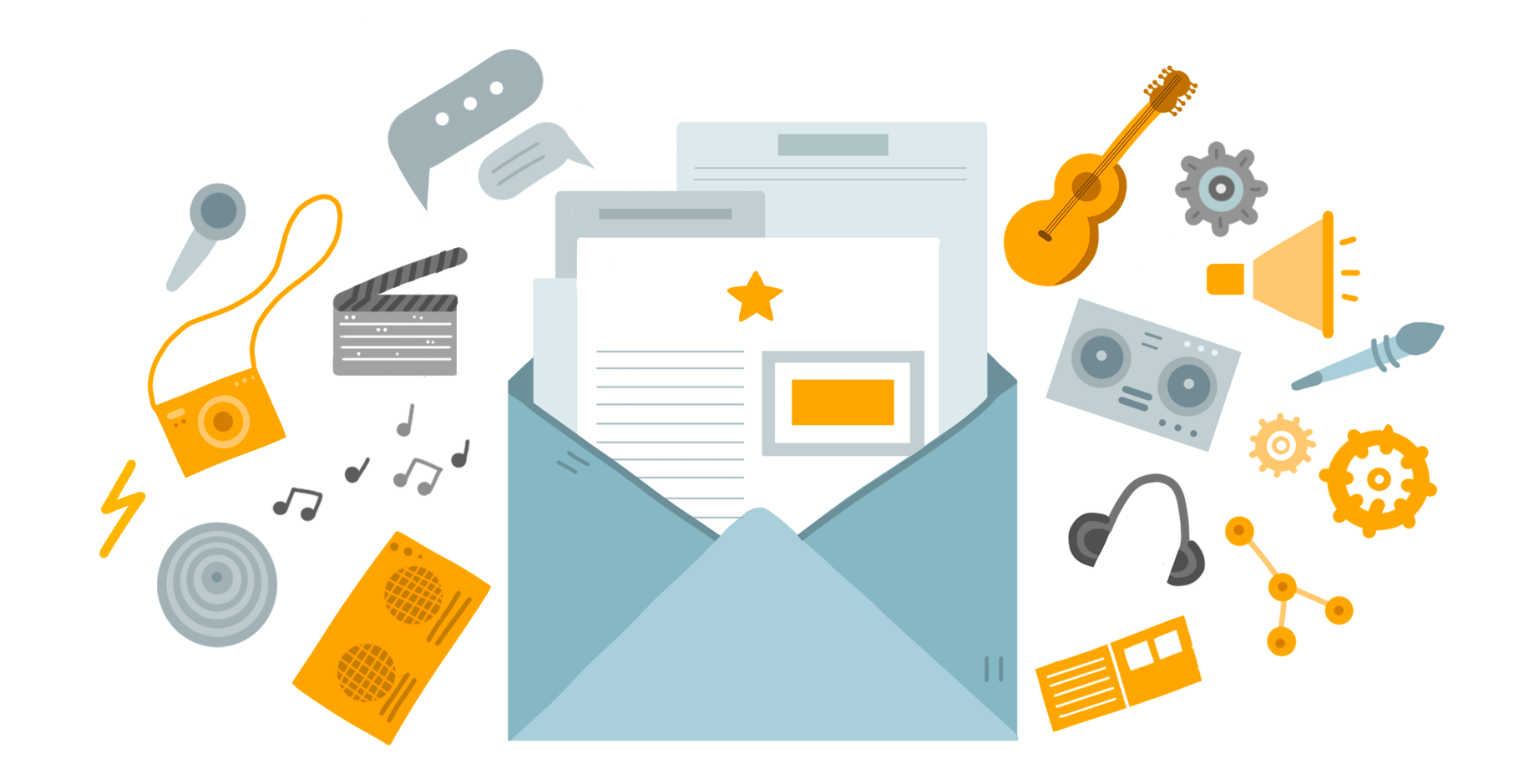Записки Жанны Вике

Я не хочу писать о себе. Я была поначалу скромной гувернанткой, потом женой чиновника, невольной свидетельницей событий, которые не были мне вполне понятны, когда происходили, да и сомневаюсь, что достаточно понимаю их сейчас. Но так получилось, что, упражняясь в русском языке, я старалась записывать то, что видела, и то, о чем слышала. Когда мне не хватало слов, я прибегала к родному языку. Позже старалась переписать по-русски. Эти заметки не всегда касались важного, они были только ежедневными. Теперь, думая о значимости времени, когда велись мои тогдашние записи, о периоде 1918–1934 года в России, – я внимательно перечитываю то, что смогла высказать, и стараюсь придать сколько-нибудь литературную форму этому дневнику, почти всегда обращенному к тому, что совершалось вокруг меня.
Я не захотела уезжать ни в семнадцатом, ни восемнадцатом году. Но рассказать об этих радостных, страшных, жестоких и наивных годах революции, годах того, что называли «военным коммунизмом», я толком не сумею: слишком ограничен был тогдашний мой кругозор. То, что запечатлено моей тогдашней подневной хроникой, – убого и неотчетливо, оно обмануло бы, если бы попыталось выдать себя за истинный рассказ о русской революции и о последующих годах Гражданской войны. Это мелочи, неурядицы, слухи, жалобы, провинциальные события – подумаешь, какая никчемная стародевичья болтовня! Я нещадно вычеркивала и дополняла прежде записанное воспоминаньями, которым придавала значение уже позднее дат, отмечающих заметки моей хроники (поэтому даты и убраны). Тогда же, помыкавшись, я подалась работать в пролетарскую школу. Моими учениками были юнцы и старики. Я учила их французскому языку. Пролетариат отчаянно нуждался в культуре, в знаниях. А я была захвачена волной народного подъема, хотя не могла не видеть и уродливой стороны, мути, выброшенной общим подъемом со дна, цинизма, недостатка в простом человеколюбии. Я продолжала странно верить во Христа, иногда молилась, но сомневаюсь, что осталась достойной католичкой. Вероятно, я и не была ей никогда, но лишь бешеные содроганья истории, ощущавшиеся мною, позволили мне переоценить свои прежние, мещанские взгляды и осознать, кто такая я и чего я стою. Французскому обывателю, вознамерившемуся прочитать публикуемые фрагменты моего дневника, такому, как те, из среды которых я происхожу, трудно будет уразуметь, что я имею в виду. Он знает, кто он такой и чего стоит – на отвратительном рынке тел и репутаций, которым кажется мне умеренная, стабильная буржуазная жизнь. Возможно, я низошла к злейшему, к худшему из всего, что бывает, но я не могу вернуться назад в своих взглядах. Мы движемся только вперед, такой урок преподала мне русская история, насколько она коснулась меня, и когда-нибудь, да продлит Господь мои закатные дни, я еще горько и надсадно раскаюсь в том, что думаю и пишу сейчас, но это не значит, что буду права. Я впитала в себя то, что называла «новой моралью» (ее именовали еще «новым бытом», и, вероятно, так мудрее, но я честна и фиксирую свои мысли). Один русский литератор, революционер, сказал, что это – мораль прямого действия. Часто вдумывалась в его слова, однако их диалектическая, как говорят в Советской России, подоплека от меня ускользает. Видимо, я слишком привыкла бессознательно противопоставлять мораль и действие. В этом я и сейчас буржуазна.
И все же, начав со слов «Я не хочу писать о себе», я испещряю страницы словом «я»! Но это необходимо в маленьком вступлении, чтобы читатель представлял себе, что пишет уже не гувернантка в кружевцах и с лукаво-подобострастным «Vôtre excellence», – с читателем говорит женщина, носившая скрипучий черный кожан и даже кобуру, не всегда пустую; женщина, остригавшая волосы по-мужски, чтобы прятать их от ветра под алую косынку. И если кто-то посмеется над мнимой разряженной гнусавой старухой, я уведомляю его, что в 1917 году мне исполнилось двадцать два.
Прислуга Наталья сидит на полу и ревет, хрипло завывая между кашляющими всхлипываниями: «УУУУ Ох мое горюшенько!» Князья Перегорские бежали, но она – прислуга, как и я. Особняк заселили. Мне оставили мою комнатку гувернантки, а Наталью перевели в бывшую детскую князя Бэби, но она должна подметать и мыть полы во всех коридорах – ради пайка. Я сказала, что умею шить, и быть бы мне швеей, но четыре комнаты отдали профессору Грудневу, уважаемому большевиками, с его женой и двумя сыновьями. Он услышал, что в доме – француженка, попросил назначить меня учить его мальчишек. Наталье приказано мыть еще и профессорские полы, обещали увеличить паек. Но сегодня у нее одна неприятность за другою. Утром, когда она оттирала уже затоптанный коридорный паркет (дорожки убрали для обогрева стен), один из новых жильцов, стареющий рабочий, пхнул ее сапогом в бок и обозвал по-матерному, добавив «Барская подстилка!» Она пожаловалась другому жильцу-рабочему, «интеллигентному», мастеру, он сказал: «На свою же черную кость, Наталья, спину гнешь, манеров княжеских не знаем, ничего, привыкай». Я хотела ей сказать, что люди ожесточены, потому что и у них – маленький паек, и они мерзнут, и они испытывают тревогу из-за того, что былой обиход разрушен, а нового нет, – но я вовремя поняла, насколько неуместно прозвучали бы мои слова. И хотя Наталья помянула этих двух обидчиков, главная причина ее рыданий – что «сперли» припрятанную бутыль разбавленного спирта, а до алкоголя лаком ее любовник: теперь и не зазовешь к себе! Как всё просто и пошло. Я не верю, что вся подобная житейская дребедень – издержки революции, ведущей в некий небывалый мир свободы. Мне следовало бы уехать. А я чего-то не могу покинуть, не знаю чего. Воспоминаний о том весеннем энтузиазме, об уличных объятьях между незнакомцами, о тех взбудораженных толпах прошлого года… Наталья –нескладная, громоздкая баба – для француза, огромные коленки, но очень в русском вкусе, сочная, почти красавица, становитая. А про себя я подслушала нечаянно: «Костлявая, тощая коротышка, вековуша» – и где мои амбиции, сохранившиеся, когда я отвергала домогательства, иногда и непристойные, князя Петра Андреевича? Даже у Бэби эти влажные воловьи глаза… Но какие пустяки! Надо оглядеться на людей, окружающих меня, а не замыкаться, словно я какая-то аристократка. Вот профессор. Кажется неприятным, чопорное сухое недовольное лицо. Я спросила его: «Вы большевик?» – «Я марксист. И даже бывал под арестом… при нашем «ancient régime». Произношение у него хорошее. Его жена – какая-то вечно разморенная, угловатая, бесформенная, тоскливая.
Занимаюсь с профессорскими сорванцами. Очень помогает не чувствовать себя беспомощной «вековушей», затерявшейся в грозном, чужом городе, где творится нечто невообразимое – впрочем, вообразить я уже могу многое, по рассказам, по сценам, которые видела сама. Профессор Груднев жаловался на каких-то моряков, вторгнувшихся в аудиторию, где он читал лекцию, и усевшихся вроде бы слушать, но окрикавших его то и дело. «Зачем им понадобилась лекция по этимологии? Для хамства – и только», – а я подумала, может быть, моряки совсем наивные и представляли себе так: войдут в университет, на лекцию, и сразу их научат чему-то важному, чтобы они стали не просто деревенщинами и охломонами, как тех же моряков называет седоусый рабочий (пхнувший Наталью), – а услышали что-то неясное про санскрит и греческие корни. Я пытаюсь понять, и пока наиболее удачной мыслью, подсказанной изнутри, внезапно, считаю: все они ужасно наивны. Революция, которую они совершили, свалилась им самим как снег на голову. Они еще меньше, чем я, знают, что им делать. Я начала говорить профессору, но он устало и невыразительно оборвал меня по-французски: «Мадмуазель ошибается».
Наталья по нескольку раз на дню обязательно плачет, меня раздражает слоновий кашель ее всхлипываний. Я никогда не любила нытья. И мне кажется, что, упиваясь своими обидами, в основном – любовными, она словно убивает себя, отрывает от себя кусками время, нахлынувшее ледяной водою на всех и покрывшее нас присосавшейся слизью. Гадкие дни, промозглые, голодные, но она их как будто не замечает, способна лишь стенать о каком-то Ваське. Нельзя поступать с эпохой так беззастенчиво. Подобные слова звучат у меня в голове, они – чужие, откуда-то возникшие, с чужими, подложными интонациями. Я не узнаю себя. Разве не имеет права Наталья на шашни со своим «солдатским депутатом»? Разве я не имею права воспользоваться французским паспортом? Разве мы обязаны заботиться о мировой истории, мучительно претерпевая ее? Она-то о нас не заботится.
Хватит рассуждений о себе. Вчера расстреляли какого-то бывшего фабриканта, перед расстрелом на морозном дворе его зачем-то заставили раздеться донага. Я представляю его обвислый, складчатый, мохнатый живот, колышущийся от дрожи. События чудовищны, в них сквозит оскал первобытной дикости. Слухи – красноармеец толкнул на перроне бабу, она свалилась под паровоз. Позавчера я видела на улице, как двое пьяных парней сбили с ног старика в очках и барашковой шапке и стали мочиться на него. Пиши, Жанна, пиши. Тебе повезло – ты иностранка, ты можешь уехать. Покуда не уехала – пиши о том, что творится в когда-то милом и спокойном городе…
И я не могу не думать опять о себе. Но уже по-другому: я как будто вижу себя как ее, некую французскую гувернантку на службе у профессора Груднева, прежде – у князя Перегорского. Я не могу сейчас покинуть Россию. Когда я уезжала из Франции, незадолго до войны, я бежала от чего-то давящего, удушливого, будто скверно опахивающего, враждебного моей молодости, моим желаниям. Я плохо понимала, куда я еду, и поэтому радовалась, как те европейцы, которые устремлялись когда-то в Новый Свет. Не стоит и говорить о моем постепенном разочаровании – уже десятки, если не сотни страниц исписаны моей скучной «исповедью». Но теперь я не исповедуюсь. Я вспоминаю, как восхищали меня – и казалось, остальных тоже, там, во Франции: Дантон, Марат, Робеспьер, Конвент. Но я умела различить, что, когда говорили о них, говорили о чем-то другом, нежели известная мне по книгам, свирепая и славная революция. Я – полюбила не что-то непонятное, что подразумевалось, и не то, что этими словами – Марат, Конвент – можно разозлить кюре, я полюбила Конвент и самих этих людей, их жестокий труд, оправдание которых было в том, чтобы завершить начатое, и никакого другого оправдания не имелось, а завершить они не успели, не сумели, и всё равно они, однако, правы. Девичья блажь, но они вросли в меня. И вот – Конвент, Робеспьер, Марат как будто ожили в России. А я убегу от них обратно, к обыденной скуке, которой всю жизнь перебивались мои родители, тетки, дядюшки, их друзья? Жизнь… – но жизнь не нуждается в апологиях. Она всегда сама себя оправдывает, говорила я себе, размышляя о не завершенном когда-то деле Робеспьера. Уехать сейчас назад – означает признать, что всё неверно и что бытие, лишенное обиходной фальши и рутины, – гадко, гнусно. Не означало бы это, что я становлюсь пессимисткой? – о, согласиться на пессимизм – значит, предать себя.
Слухи о новых убийствах – даже не казнях. Кто-то убивает кого-то, и заведомо решено, что некуда деваться, неизбежное революционное насилие. Мне сложно, одни мысли оттесняются в голове другими, потом возвращаются. Я – щепка в паводок, и щепка не слишком ясно мыслящая. Попробовала говорить с Грудневым. «Жанна, вам следует не мешкать, уезжайте, сейчас едят конину, а завтра будут человечину жрать. У власти кучка organtchikoff, авантюристов, которая не контролирует разнузданный их безумными декретами народ. Они погибнут через несколько месяцев, но за несколько месяцев покроют трупами город в четыре слоя». Он говорил по-французски, и я изумленно ответила ему на том же языке: «Но вы марксист?» – «Именно! А это – скверная отсебятина. В нашем кошмаре не отзывается ни одна строчка Маркса. Пугачев, бессмысленный и беспощадный Пугачев – вы слышали о Пугачеве?» И он осведомил меня о том, что Пугачев – знаменитый мятежник, неграмотный дезертир, собравший отряд исключительного сброда и вырезавший императорских офицеров и прочих дворян в нескольких южных городках. Потом его поймали и казнили.
Поскользнулась и едва не упала на улице, меня подхватил молодой человек, совсем не вульгарный, мы познакомились. Лицо большое, но как будто вдавленное, с плоским носом и широким, выпуклым лбом, пепельные волосы, плохо выбрит, но показался мне симпатичным. Он – поэт, не большевик, но поддерживает большевиков, потому что Блок принимает революцию. Я читала Блока, немного, и мы заговорили о литературе, я – о Верлене и Рембо, он – о русских поэтах, имен которых я не запомнила. В доме, мимо которого мы проходили, слышались крики, грохот, брань, брызнул звон разбитого стекла, хлопнул выстрел. Я не удержалась и снова спросила его про большевиков. Сказала: «Я ненавижу их!» Он рассмеялся, а потом озадачил меня: «Вы услышали сейчас одну ноту, даже отголосок. Слушайте музыку революции не ушами, а всеми чувствами и сердцем». Я, конечно, пожелала, чтобы он объяснил такую странную фразу. Его объяснения были путаными. Его зовут Максим.
Максим привел меня к своим друзьям, неким Шотиковым. Ничего не стало – ни железной метлы ветра, ни стрельбы, ни пьяных дебоширов. Теплый, немного вычурный буржуазный уют, старая мебель, подобранная с недурным вкусом. Хозяйка, «мадам» – полногрудая, обрюзгшая женщина, курит папироску в длинном янтарном мундштуке, хозяин – румяный, горбоносый, бодрый мужчина с остроконечной бородкой, угощает сигарами. На белейшей, свежайшей скатерти – хрусталь, икра, прекрасные вина, коньяк. Их сын, черняво-кудрявый увалень, читал стихи (мне трудно судить, но показалось, что плохие). Максим аплодировал. «Мы страстно любим поэзию», – поведала мадам. Среди гостей некие Малхазяны, сообщили мне, что их сын тоже пишет, пригласили нас к себе – кажется, меня и Максима они принимают за пару. Тем более что для достоверности Максим начал потискивать мое плечо. «Иначе бы не позвали. У Малхазянов дочка, они ее хотят выдать за Костю Шотикова. Он на инженера учится». Показал афишу, экземпляры которой принес свернутыми в трубку: «Революционный мелодизм! Выступление поэтов: Константин Шотиков, Григорий Малхазов, Максим Хек, Илона Боецкая». Кстати, у Шотиковых Максим тоже читал. Мне запомнилось:
Топливо наших флагов
Наша горячая кровь!
Не знаю, хорошо ли это. Хочется думать, что да. Старший Шотиков – чиновник-снабженец, старший Малхазян – тоже числится по какому-то ведомству, Илона – cocotte какого-то важного товарища, хотя и лезбийка.
Я побывала на вечере «революционных мелодистов». Какая поразительная женщина эта Илона Боецская! Я поначалу очень была настроена против нее, но когда, вынув шпильки, она позволила струистым светло-каштановым волосам окатить ее плечи, в этих волосах я заметила как бы приглушенный свет без огня и блеска – такой иногда, сами по себе, как кажется, излучают розы. И эта женщина курила крепкие папиросы, говорила хриплым низковатым голосом и затеяла с Максимом горячий напряженный спор о самых отвлеченных предметах. Она немного ласкалась ко мне. Тело Илоны перемещалось плавучими, ленивыми движеньями. В ее стихах, тоже каких-то ленивых, не то чтобы томных, но незамысловатых и без воодушевленья, я не услышала ничего революционного. Однако публика почтила в Илоне женщину. Максиму же досталось. Кто-то из слушателей спросил его деловито-резко: «Товарищ Хек! Вы не числитесь вроде бы в партии. Да и революционер какой из вас? Почему бы вам не попробовать стать революционером-партийцем, а не витийствовать попусту о великой борьбе?» Максим, не смешавшись, начал объяснять, что его ритмика – такое же оружие пролетариата, от которого он не отделяет себя.
После того, как я отдалась Максиму, на лестничном подоконнике в промерзлом доме, он спросил: «Ты любишь меня?» – «Не знаю. Я увлечена тобой». Он как-то уныло помолчал. «Послушай, ведь я не спрашиваю, любишь ли ты меня». – «Я готов ответить…» – «Не нужно. Мы нравимся друг другу, вот и всё». Он внезапно оживился и сказал: «Ты настоящая новая женщина. Я принесу тебе статью Коллонтай». Как ему угодно.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
В древнем городе Сырове мы встретились, наконец. Сыров после боев и отступления белых показался мне словно нечистоплотно выметенным какой-то гнусной метлой, царапающей и корежащей. Облупленный, с дырами окон, город как будто подвергся нашествию саранчи или крыс, побывавших всюду, внутри и снаружи, в каждом закоулке и закутке: на кровлях, вдоль улиц, под кроватями, шкафами, по всей длине и ширине оборванных обоев – не пропустив ни одной балясины перил, ни одного матрасного звена нетронутыми. За несколько дней, живя у Максима, побывав на нескольких квартирах, я везде замечала следы этого нашествия. Попробовала рассказать Максиму. Он ответил: «Жанночка, эти саранчи, эти крысы – минуты и часы, время. Сырову лет за семьсот. И жили в нем неопрятно, бедно, неряшливо». Потом задумался, но не поправил себя.
Я не написала о самой встрече. После тифа, в теплушках – товарных вагонах, тесно, душно наполненных людьми, их потом, их дыханьем, их голосами и хрипами, – я поехала вслед за Максимом и настигла его. Я расспрашивала, начиная с толпящихся на вокзале людей, может быть, прибывших вместе со мною, где найти комиссара Хека. Один красноармеец посмотрел на меня неодобрительно и строго и спросил:
– А вам на что товарищ Хек, гражданочка?
– Я жена его.
Этот парень с тяжелым, но не одутловатым лицом подозвал другого, и в итоге третий привел меня в гостиницу «Европейская». Я огляделась. У подножья дерева снежные комья от растаявшего сугроба – как разбросанные камни; а деревья скоро захолонет ветвистый дым, желтовато-аквамариновый. Уже и сейчас поверхность лужи зыблется, как летнее жаркое марево. В небе – растерянное облако.
Я поднялась по мраморной лестнице, замечая щербины ступенек и выбитые, полысевшие пятна на ковровой дорожке. В большом номере поперек постели лежал в расстегнутой черной кожаной куртке Максим и курил.
– Жанна… ты, конфетка, и здесь! Какая ирония…
Показалось, что он пьян.
– Максим, я не конфетка, а взрослая женщина, уже не особо и молодая. А после тифа и вовсе боюсь твоего взгляда. Я здесь, потому что хочу быть с мужем.
– Ты не понимаешь, что несешь, любимая, – заговорил он медленно. – Мы вчера весь день снимали висельников и расстреливали пленных. Висельники – тут заводы: фаянсовый, вагоностроительный, – ну и рабочих, пролетариев-то они, как врагов-коммунистов… Развесили. – Он сел, и я подошла к нему, он обнял мои бедра, прижался к ним.
Я поняла, что Максим не пьян – вернее, пьян от бесконечного взаимного насилия, такого странного в этом весеннем и с виду издалека уютном, сдобном городе. «Кто знает, сколько скуки в работе палача…» – процитировал Максим.
– А пленные? – зачем-то уточнила я, хотя не нуждалась в ответе.
– И ты – осудить. Осуди, пожалуйста, но не меня, а эту похабень, войну поганую, постыдную, кто ее ни затеял, они или мы, не знаю. Я раньше думал… – он говорил расслабленным, отрешенным голосом, но внезапно отпрянул и быстро вздыбился на ноги. Полез в планшет и вытащил стопку бумаг. – Ага, читай: «Нашими зорями, красными… И я повторю, отражаясь в штыке…»
Он порвал листы надвое и раскинул по комнате, потом принялся охотиться за ними и, хватая половину листа, издирал ее в мелкие клочки. Кричал: «Говно! Говно! Лирические размышления между резней и расстрелом! Да здравствует мелодизм революционной войны!» – я догадалась, что последний выкрик был цитатой из того, что Максим сочинял в Красной армии. Он успокоился и сел напротив меня, стоящей, как прежде:
– Я раньше думал, что я поэт. Но поэзия неуместна-с, милостивая государыня. И ты осунулась.
Тем не менее, мы жарко провели ночь в его номере-люкс, где обои ветошками свисали со стен, а ножки мебели были покрыты тараканьими крапинками.
Я вижу, что Максим переменился, но совсем не таким образом, как можно было ожидать. И не очерствел, и не отчаялся, что-то другое. С одной стороны, стало много в нем мелодрамы, как будто он, с его поэтическим талантом, не мог найти никаких точных слов, без сентиментального и отвлеченного пафоса, для того чтобы выразить свое отношение к войне, к тому, что происходило вокруг него и во что его вовлекали ежедневно. Склонен к словогромкому надрыву, но это – бряцание пустыми ведрами. С другой стороны, когда не было патетики, он становился серьезен, сосредоточен, углублен в делах и в разговорах. Как-то неожиданно заговорил: «Я от тебя отбоярился, сказал – помнишь? – что город источен временем, семьюстами годами своего существования. Я, конечно, промахнулся. Это наше время, начиная с года четырнадцатого или пятнадцатого, изъело его, прошлось по нему, как саранча или крысы». И это он произнес отчетливо и деловито, обдуманно.
Но я подозреваю, что и за мелодраматическими сценами, как тогдашняя, в «Европейской», где мы и сейчас живем, и за сосредоточенностью Максима – одно: странное и, верно, пугающее его самого безразличие к ужасу и вине. Поэтому выплески чувств у него провинциально-театральны, поэтому его серьезность натужна, вынуждена – она скрывает выскобленную пустоту. Должны быть какие-то эмоции – а нету. Впрочем, я не могу пожаловаться на его равнодушие ко мне. Иногда, по вечерам или по ночам, в постели, едва не со слезами он благодарит меня за то, что приехала. И это не то же самое, что его театральность – у нее совсем другие интонации. Но занимается со мной любовью он остервенело, как изголодавшийся солдат – с угодившей под руку деревенской девкой. Горячечно и свирепо. Я наблюдательна, я знаю, как совокупляются животные. Поэтому нельзя написать, что он берет меня по-животному. Все гораздо хуже. Он берет меня, словно опасаясь враждебности и сопротивления, заранее подавляя их – и еще хуже то, что его грубые и жесткие жесты и ласки порочно нравятся мне.
Перечитала недавнюю запись. Максим – военный комендант Сырова, для него такое назначение – перерыв в похабени войны, если не вовсе перевод на тыловую службу. Он остепеняется. Но в закрытой спальне что-то садическое преследует его, а я повинуюсь. Возможно, оттого что я сама жестка, излишне рассудочна, суха, мне и нравится повиноваться ему как грубому азиату, взявшему меня в немилосердный плен. «Расстреливали пленных». Как-то добавил, вспоминая об этом: «А куда их девать-то, сволочей». Но однажды я предложила ему привязать меня за руки к железным прутьям изголовья. Он оробел: «Жанночка, да что же ты… с чего бы ты… прости, прости дурака». Вероятно, он не замечал прежде, что делает со мной. Его растерянность выдала мне скрываемое им. Безразличие, о котором я писала, – тоже верхний слой, кожура, а гораздо глубже – какое-то бегство в свою непроглядную глухую глубину. Оттуда он не может в достаточной мере наблюдать за собой внешним.
Манящая бездна плоскости – сказала бы я. Жуткая и манящая. Плоскость в том, чтобы стать до печенок внешним, явным, ясным для других. Словно спроектированным на бумагу в изометрическом разрезе. Даже для меня заполняющаяся плоскость бумажной страница – такая бездна. Однако я знаю, что стать совершенно внешним человек не может. Я помню почтенных мещан моей родины. Их манила та же бездна плоскости, и в то же время каждый припасал что-то сокровенное и безымянное лично для себя. Но теперь на моих глазах происходит иное. Все сокровенное пинками загоняется в такие потемки души, что о нем забываешь, хотя бы оно и было непрерывной раззуженной болью. Остается пустота и какие-то рефлекторные движенья чувства или разума без гулкой перспективы за ними. Они – чтобы не застоялись, не обременили – сразу выдавливаются вовне - то мелодраматическими выкриками, то вдумчивой напряженностью по мелочам, которые и непостижимы при таком состоянии, если не сосредоточиваться. Наступает ночь, скребется потаенное, и теряешь контроль над хорошо упрятанным собой. Внешняя привычка к грубости (я не обольщаюсь мыслью, что Максим соблюдал целомудрие на войне) совпадает с вырывающейся изнутри тревогой, которую едва заглушает неистовое стремление отдаться только телесному, погрузиться в только телесное, безрассудное, свободное, в бесконечный океан материи, где теряешь себя. Манящая бездна плоскости…
И со мной случается то же самое. Я, вероятно, не сознаю, какие пласты горечи, страдания и злобы отложились где-то у меня в беспамятстве. Жила впроголодь, слышала попреки от Шотиковых и – с ежедневным ожиданием вести о гибели Максима или о том, что он ранен. Я почти хотела получить такую весть. Она избавила бы меня от боязни нового удара, если бы меня уведомили, что он погиб. Или она бы наполнила меня беспокойством – выживет ли, не останется ли калекой, определенным беспокойством, о предмете которого можно разузнавать, раздумывать. Но как раздумывать о неполученной вести? Как разузнавать о том, чего пока не случилось? А еще арестовали Малхазяна, и я, поскольку вынуждена была Шотиковыми кое в чем помогать их подпольной торговле, опасалась: арестуют и меня. Но даже Шотиковых не тронули. А как раздражали великовозрастные хамы-ученики в рабочей школе, тупые, неотесанные, циничные, я почти соглашалась с профессором Грудневым – –
И теперь, когда Максим становится жестким, я отвечаю покорностью, но эта покорность – жажда раствориться в телесном, жажда убежать в телесное от проступающего внутреннего жжения. Голод по небытию своей ерзающей воли, которая реагирует на проснувшееся потаенное и хочет броситься наружу.
Я лежу, распластанная тугим и хищным телом Максима, а он в соседней комнате принимает ночных визитеров. Я слышу:
– Товарищ Хек, а ну как вернутся. Обороняться-то чем? – сквозящий скрипкой голос.
– Х-ями отмашемся, – сопровождает его, как в опере, бас и переходит в ухающий смех.
– Товарищи, нельзя паниковать, – Максим заговорил сурово и отрешенно. – Но и беспечность не дело, Рыдванов. Тебе поручили организацию городской милиции, а я отвечай на жалобы, что твои милиционеры архаровцы, сами вчерашние блатные.
– Они проверенные у меня, блатные оно и хорошо, знают повадку воровскую. А что за архаровцы, не ведаю.
– Полицеймейстер был такой, Архаров. При Николае Палкине.
– Я не паникую, а только отряды самообороны и милиция парней не поделят. Рыдванов к себе боеспособных тащит.
– Потому что, товарищ Андрей, не умеете себя авторитетно поставить, – назидал Максим. – И на кой ляд тебе фартовые, ты мне полови базарных ширмачей, когда под городом бандитизм, и ночуют бандиты в самом городе, судя по доносам.
– Ежели под городом, пускай Андрей со своими очкастыми и воюет против них.
– Неизвинительно, Архаров ты, неизвинительно, Рыдванов.
Раздался четвертый голос, эдакий с ленцой.
– Да полно вам. Орга-анизуем эспеди-ицию. И милиционеров привлечем, и тех, кто покрепче, из са-амообороны. А я спать хочу.
– Ну и ложитесь, Гревский, на диванчике. Андрей, у тебя пулеметы. Не кисни. Рыдванов, не будь куркулем, поделись молодцами с Холоповым. И, кроме того, Андрей, нельзя, нельзя. Председатель исполкома. В бою держался – любо-дорого посмотреть. А от штатской жизни тюфяком заделался.
– Врешь, товарищ Хек, я не тюфяк. У меня такого подходу к местным нет, какой у Рыдвана. Он бродит, семечки лущит, со всем городом уже запанибрата. А у меня партийная работа, писанина, и вот еще – отряды оборонческие.
– Партийная ра-абота, Андрей, не писанина.
Я слушаю и не слушаю, но фразы как-то запоминаются. Я представляю их лица: познакомились уже. Начальник Чека Анатолий Гревский похож на холеного балованного царского офицера-кокаиниста, с маслянистыми черными усиками, любуется собой, за ногтями следит. Председатель исполкома Андрей Холопов – закорючка, вялые уши, белесые волосы. Провонял прокуренными кабинетами. А Рыдванов – мясистый, широкий, кряжистый, толстолицый, на щеках какая-то плесень, пропотелый. Удивительно, что Максим похваливает Холопова в бою, мне даже трудно представить его на лошади.
Сейчас, когда я записываю вчерашний ночной разговор, у меня в уме тренькает неплодная мысль о наших беседах с Грудневым. «Революцию я не отрицаю. Но не такую. Такая будет продолжаться до истощения сил ее противников, а противников будет с каждым днем больше. Почему? Потому что крестьяне никогда не примут коммунистическую революцию. А их гораздо больше, их неизмеримо больше, чем фабричных. Крестьяне у нас тугодумы, но если их заденут, и опять заденут, они такого Пугачева, такого Стеньку покажут, что пальчики оближешь. Я имею в виду – блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, его призвали всеблагие, как собеседника, на пир. А мы и видим «закат звезды кровавой», и еще не видим. Культура летит в тартарары. Пойдет, конечно, после всех потрясений новая людская поросль, но старая культура уже не привьется на ней, потому что мало что от старой культуры останется, ее не выкосят, так она сама опошлится, изменит себе. Уже изменяет, за паек, за папиросы, за теплое пальто, за улыбку важного лица – и летит в тартарары, поскольку не верит самой себе.
Они заботятся о создании новой, пролетарской культуры – я могу их успокоить: они ее получат, даже если захотят противоположного. Но их пролетарская, а значит, городская, заводчанская культура будет попахивать деревней, сенцом и дерьмецом». – «Значит, вы думаете, что победит анархия?» – «Анархия, хм. Анархия хороша для бар. Победит не анархия, а тот, кто выскочит в Бонапарты. Или в Батыи. У нас Бонапарт непременно будет наполовину Батыем. Vous me comprenez?».
Oui, je comprends. За стеной четверка мужчин создавала новое государство в древнем Сырове, с его обкатанными белыми известняковыми глыбами монастырей и церквей над россыпью приплюснутых крыш. И я неплохо изучила одного из этих мужчин, поэтому и другие не кажутся непроницаемыми. Я познакомилась с ним, когда он считал себя поэтом, а значит – приуготовлялся к жизни, полной старомодного корпения над книгами. Теперь от прежнего мальчика-интеллигента, по зову Блока вслушивавшегося в музыку революционных вихрей, «мало что осталось». Опошлился за паек, за папиросы? Нет, какая-то сила швырнула его в искромсанное месиво, в обыденщину снимания повешенных и расстрела вешателей. Какая-то сила, притворявшаяся поэзией, вдохновением, но прозаичная, коварная и обманчивая. Желание затеряться в призрачной материальности неких «мы», в бесконечной хаотичной материальности людей и предметов. Или я приписываю ему свои стремления, увлекшие меня в Россию, сделавшие из меня княжескую гувернантку, учительницу рабочей школы, жену комиссара-коммуниста?
И в том, как я распорядилась своею жизнью, и в том, как своей распорядился Максим, – нечто схожее. Мы оба не знали, каковы пределы нашей свободы, оба хотели их испытать, не подчиняясь благоразумию Шотиковых, которое было мудрее нас. Максим… каково ему попасть в сверхчеловеки, словно кур в ощип? И не внушает ли мне отвращение этот сверхчеловек поневоле?
Рыдванов – бывший рабочий, сын крестьянина. Гревский, с его гусарскими усами на коротковатой верхней губе и крупными блестящими зубами, полуполяк, политический каторжанин в прошлом, неясного происхождения. Якобы незаконнорожденный сын батрачки и пана. Холопов тоже рабочий, как Рыдванов, но сын рабочего и внук городского кустаря. Тусклое лицо. И Максим, с его интеллигентской семьей. Они – хозяева и господа в Сырове. И я догадываюсь, что только неподатливая толпа горожан да угроза бандитов и возврата белых сплачивают их, но каждый тайком ожесточенно презирает и едва выносит других троих. Сегодня Максим вернулся поздно, рассказал:
– Гревский и Рыдванов устроили экспедицию против бандитов. С ними десяток красноармейцев и местных сотни две. Говорят, спугнули, убили одного, а двух арестовали. Гревский сидит на коне задумчивый, как Наполеон. Не люблю его. Рыдванов – miles gloriosus, вояка бахвал, но я терплю и его матерщину, и его недалекость, потому что он не слишком амбициозен. Мечтает о хуторе с вишеньем и пятью коровами. Теперь хотят провести показательный суд над двумя попавшимися бандитами. Напоминает какой-то идиотизм, какие-то балаганы с петрушкой, но я пытаюсь внушить себе, что всё по-настоящему: и перестрелка, и арестованные, и суд. Оно и есть по-настоящему, разумеется, но как-то не верю ничему, как будто всё понарошку. Балаган с петрушкой.
– Тебе надо отдохнуть, долго, долго отдыхать, Максим.
Он признался, что они с Холоповым и Гревским сговорились против Рыдванова и еще некоего Полищука. А сам не может вспомнить, зачем согласился. «Полищук понятно, он уже экспроприациями показал себя и нам, и сыровцам. А Рыдванов?» – «Наверное, Гревский подмял Холопова, а тебе нельзя было оставаться в стороне». – «Подмял Холопова? Да он лишь кажется тряпкой, но я видел, что он безудержно храбрый и решительный человек, и Гревский его побаивается». Я запуталась в их интригах.
Присутствовала при разговоре между Максимом и Холоповым.
– Андрей, пойми, нельзя говорить: «я и мир» или «я в мире». Мир состоит из тебя, меня, всего прочего, ты не довесок, ты не отдельно от мира. Только часть, частица.
– Ты мне Богданова проповедуешь.
– Какой Богданов, к чертям собачьим! Читывали мы и Богданова – не то. А по-ленински. Мир материален, материя порождает сознание, не в тебе одном, а во всех: в трупердой, дремучей деревенской бабе, в полковнике Козловском, которого мы лихо выбили отсюда, в Рыдване. Стало быть, мир состоит из материи и сознания. Ты умрешь – они по-прежнему будут. А у тебя какой-то идеализм получается: не вечный для времен, я вечен для себя. Но абсурдно же, абсурдно! Чуешь логику?
– Ты бы еще спросил, товарищ Хек: чуешь пролетарскую логику? – съязвил Холопов, и Максим немного опомнился. – А я так рассуждаю, тоже, знаешь, материалистически. Сознание – во всех. Оно и в корове имеется, не то что в рыночной торговке или вот полуслабоумном головорезе Тишке-Ляпанном, которого Рыдван и Гревский захватили, или в полковнике том же Козловском, который Военную академию окончил. Но что такое сознание? Природа сознания такова, что оно поднимается над собой, рефлектирует.
– Ну, рефлектирует? Ну и дальше-то что?
– А то, что рефлектируя себя, оно полагает самого себя в отношении к наружному миру. В отношении! Это разуметь надо, Максим! Противоречие между разумом и миром сымается только тогда, когда сознанием постигнута идея мира, полностью, до донышка постигнута. А пока не постигнута – противоречие не сымается.
– Слышали! Читали! Гегель, и всё, и больше ничего. А разве Маркса после Гегеля не было? Не ум постигает, а труд осваивает мир, и труд отчуждается капиталистами, а когда мы возвращаем труд к его источнику, к рабочему…
– Ну что ж замолчал. Я рабочий – верни мне отчужденный капиталистами труд.
– Замолчал я, товарищ Холопов, не потому что застеснялся родителя-архитектора перед тобою, рабочим и сыном рабочего. А потому, что сам засомневался, верно ли разумею Маркса…
– То-то же, комиссар. Не марксизм у тебя, а максизм, упрощение. А у Маркса философия, и без философии никуда.
– Ты погоди, допустим, я запутался, а ля гер ком а ля гер, известно. Но у тебя-то каким образом выходит, что твое, пролетарское, но лично твое сознание находится в противоречии с миром?
– А ты не заметил, что мы воюем? Обнаруживается-таки противоречие между моим пролетарским сознанием и сознанием полковника Козловского, вымуштрованным в Военной академии.
Запомнила слово в слово. Показалось очень важным. Сейчас не могу понять, отчего показалось так. Не платоновский диалог у Максима с Холоповым все же. А! конечно. Клюнуло меня мыслью – как вернешь отчужденный труд Холопову? Какая-то чушь получается. Возможно, Холопов прав, и Максим упрощает, разводит «максизм». Но неужто, по Холопову, война, «похабень» – оттого, что сознание рабочего Холопова стало в иное отношение к миру, нежели сознание Козловских и Тишек-Ляпанных? А похоже, так.
...............................................................................................................................................................
Инженер неловко соскочил с подножки вагона. Максим, только что стоявший, прислонясь к автомобилю, уже шагал навстречу, а мы с Грудневым сидели в машине. Когда на строительство прибыл Груднев, я была поражена: «Но вы же латинист, Николай Афиногенович?» – «Не только, не только… я начинал как математик. Латынь сейчас никому не нужна, а вот математика всегда окажется в почете», – осторожно усмехался Груднев. Я захотела сразу предупредить. И когда довелось оказаться наедине, в уверенности, что нас не услышат, сказала, чтобы он не остерегался меня, какая разница, что я слышала от него десять лет назад про «хамодержавие» и прочее. Я жена председателя парткома, советская аристократка, но я не разделяю предрассудков среды моего мужа, я независимая женщина и себе на уме.
А теперь встречали Холопова. Андрей Игнатьевич пополнел, приобрел менее мешковатый и затрепанный вид. Максим рассказывал, что после войны бывший глава сыровского исполкома выучился на инженера, потому что мечтал об этом, еще живя трудом рабочего и марксистскими брошюрами.
– Жанна Веньяминовна, алкал увидеть вас, – галантно и лукаво приветствовал меня.
– А у нас на главной станции – шум, грязь, бестолочь, сутолока, а отсюда ближе, – быстро, бодро заговорил Максим, садясь возле шофера. – Агромаднейшее строительство, ну да знаешь и сам. Товарищ Груднев не поспевает. Он засел в финансовом отделе, а его инженеры наши дергают: помогите с расчетами, Николай Афиногенович. Ну, думаю, не ладно дело, чтобы человека из финансового дергали с ихними чертежами и графиками. Прежний помощник начстроя, Бокалов, никуда не годится. Тоже запрется над арифметикой ихней, пропыхтит, изведется, а проку никакого. Рохля, к тому же. Я и решил – выпишу тебя, вытащу на простор из пыльного кабинетика, проверять технические расчеты. – Он вполоборота перекрикивал встречный ветер и рокотанье тряского автомобиля.
Я удивлялась, как-то он скажет то, что следует даже на одинокой степной дороге произносить пониженным голосом. Но знала, что скажет. И он извился, подсунул голову почти к лицу Холопова и громко, но все же не криком объяснил главную причину вызова:
– Начстрою я не доверяю, Шотикову. Старорежимный, чопорный, сука, и такое гордячество. Мне отвечает: «Вы, товарищ Хек, ничего не понимаете в таком-то вопросе, так и не агитируйте меня, вашими «энтузиазмами» технической проблемы не решишь». Я ему уже грозился – за контрреволюцию под суд, а он смеется.
Смеялся начстрой, конечно, тому, что бездарный поэтишка, Максим Хек, ему, бездарному поэтишке, Константину Шотикову, научному светилу и старому приятелю, втемяшивает что-то, как большой коммунистический руководитель – видному специалисту. «Как будто всё понарошку» – перечитала я недавно старую, сыровскую еще, до Крыма, запись. И словно уловив мои мысли – но это было его обычное присловье, Максим, уже опять вполоборота, продолжал: «Я, конечно, к Бокалову, выручайте, Федор Федорович, остругай мне, едрена корень, своего Шотикова, с научно-технической стороны, а Бокалов рохля, пентюх, отвечает, где мне его остругивать, дескать, он отмахнется, вежливо спровадит. Понимаешь, какой балаган с петрушкой?»
И Груднев, конечно, слышал всё – мне было стыдно за бестактного Максима перед профессором. Я вспомнила его стихи, не порванные тогда, в сыровской гостинице «Европейская», с тараканами и мертво свисавшими лоскутами обоев, а предназначенные для ободрения бойцов:
Наши тезисы о Фейербахе –
Философия наших сабель,
И, как хирургический скальпель,
Врага мы срезаем на хер.
В Максиме, как червь в древесном тулове, завелось паясничанье, подлаживающееся вроде под народную речь, но порожденное не столько разумными целями, сколько безрассудными причинами. Это другая сторона мелодрамы, которую он разыгрывал, ругая войну и плачась.
В нашем светском городке аккуратных кирпичных коттеджей Холопова отправили отдохнуть с дороги на выделенную квартиру, а Максима и Груднева шофер повез к главному управлению. Итак, дома я была одна. И долго смотрелась в зеркало. Худое, заостренное книзу лицо – так и осталось после тифа, тонкий нос с выпуклой костистой горбинкой, большие карие глаза, но глубокие складки от крыльев носа к углам нешироких губ. Меня можно любить за то, что я не похожа на русских женщин, рабочие считают меня еврейкой, несмотря на довольно светлые волосы. За что еще? Максим давно заладил, как песенку: «Француженка, француженка, парижский аромат». Я слишком хорошо улавливаю, что это означает. У меня тощее тело и маленькие груди. Неужели и для Алексея Ефремовича я – «французский аромат», который, кстати, выветрился как не бывало. Я видела и влажно поблескивавшие, как стеклянные осколки, глаза Шотикова – развратная француженка! Но мне кажется (хотя я много лет как запретила себе доверять таким видимостям), что Алексей Ефремович слишком тонок для того, чтобы его привлекала только «француженка». Ему одиноко. И мне жаль его. Какая разница Максиму, что он в меня влюблен? И Максим изменял мне и, конечно, изменяет теперь с молодыми работницами, которых у него не меньше тысячи, и я не всегда хранила верность. Но сейчас я не хочу измены, я хочу возбуждать любовь. Жена крупного чиновника – «хочу!»
Они потихоньку добираются до всех – то до одного, то до другого. И Постников боится, что скоро его очередь – прогуливались сегодня с ним. К сожалению, ясно, что это не пустая пугливость. Его биография не секрет. Алексей Ефремович был из набольших эсеров (правда, левых), потом – министром земледелия в Народном правительстве Центральной республики. И то уже чудо, что его назначили заведующим складами. Им чудовищно не хватает образованных и технически грамотных людей. Выдвиженцы из рабочих – единицы, я-то знаю, и то выдвиженца выше начальника цеха не поставишь, выше начинается то, чего он не поймет. И заведующим складами даже нельзя, не хватит выучки, какие детали и материалы к чему. Они горазды бахвалиться своими достижениями, но вглядишься – и всех достижений то, что заставляют за гроши трудиться тысячи человек, одетых в отрепья, питающихся зловонным хлебаловом, но, видите ли, мечтающих! Мечтают они, разумеется, о социализме, но только их мечты о социализме как мечты Рыдванова о хуторе с вишеньем, только поскромнее. За лишний рубль готовы сутки в холодной воде по грудь клепать или чинить что-нибудь. А они – но, может быть, следует писать «мы»?
В самом деле, я жена партийного руководителями обеими стройками, гидростанции и завода, инженеры заискивают передо мною, только что сама не коммунистка. Максим пилит, чтобы вступала в партию. Раньше отговаривалась, что не вступлю, пока не пойму доктрины. Но сейчас-то какая доктрина – прямая угроза Максиму: жена такого доверенного и высокопоставленного лица – и беспартийная. Я, конечно, работаю – иногда стенографирую, иногда учу сезонников русской – русской! – грамоте. Но вечерняя школа для сезонников открыта редко, лишь когда по каким-то причинам у них сокращенный рабочий день.
Иное дело – Илона Боецкая, в миру – Алена Митрофановна Редько, она была любовницей Постникова, кстати, в то время как революционные мелодисты выступали в кафе. Женился на ней, однако, Шотиков. Они вступили в партию почти одновременно, и пожалуйста: жена начальника строительства живет, как томная барыня, комсомолкам соски пощупывает (фу, какая я). А вся история, вкратце, что Малхазяны попали под горячую руку, Малхазяна-отца отправили на каторгу, какая из его дочери невеста Шотикову? Постников отбыл к войскам. Костя и Илона, лишившиеся каждый пары, объединились.
Постников жаловался, что Груднев его избегает. Груднев – старорежимней десятикратно того же Шотикова, ему надо доказывать свою лояльность, а Постников – министр Центральной республики… но как это безобразно! Я должна побеседовать с Николаем Афиногеновичем.
Стенографировала речи на митинге, неожиданно застигшем строителей плотины в начале обеденного перерыва прямо на месте их труда. Опалубка гигантских бетонных башен, ее запачканный бетоном тес, запыленные мускулистые тела под расстегнутыми блузами показались мне заранее выбранной декорацией, украшенной фигурами. Максим, Холопов, Груднев и я расположились на земляной ступени над дном осушенного русла. Несколько человек, сопровождавших нас, сбежали вниз, чтобы собрать работников. Я подумала: моим шелковым прозрачным шарфом веет ветер, блестят очки Андрея Игнатьевича, Груднев в безукоризненном костюме с белым тропическим цветков в петлице – картина Олимпа, самодовольно возвышающегося над головами смертных. Даже застиранная гимнастерка Максима выглядит знаком командующего офицера.
Я оперлась с блокнотом на колючую неструганную балюстраду. Максим прокричал:
– Товарищи! Сегодня знаменательный день, поскольку каждый день на строительстве Гендриковской гидроэлектростанции и Гендриковского паровозного завода знаменателен. Сегодня, к примеру, я представляю вам заместителя главного начальника нашей стройки – товарища Холопова, Андрея Игнатьевича. Казалось бы – какая разница, Бокалов или Холопов? Не от них зависит успех великого нашего труда, а от вашего энтузиазма, товарищи! Ибо энтузиазм – добавочный фактор производительности, неведомый буржуазным рвачам. Но товарищ Холопов – не обычный человек, товарищ Холопов – сын рабочего и жизненный путь начинал простым рабочим, даже еще не рабочим – мальчишкой, протиравшим станки и подметавшим цех за гроши, которые кидала ему в замусоренную пыль буржуазия и которые, однако, помогали его отцу кормить семейство. А став рабочим, товарищ Холопов стал марксистом. В недолгие часы, нехотя отпущенные фабричным для сна их жиревшими хозяевами, он читал политическую литературу, повышая уровень своей пролетарской сознательности. И его не соблазнили проповеди меньшевиков – работай до времени, губи здоровье, а всё само собой образуется по законам исторической неизбежности. Он не сходил с проложенного Лениным революционного пути освобождения рабочего класса и примкнул к большевикам. И его непоколебимость сказалась в том, что в тяжелые, кровавые годы белогвардейской опричнины он, обычный рабочий, не полководец, стал отважным и одаренным командиром Красной армии! Но завершилась победой исторически правых сил война. Товарищ Холопов не погнался за карьерой, легко доступной для него, не обольстился должностями, он продолжил свое техническое образование, фундамент которого заложили годы на производстве. Ему не без труда, но далась наука инженера, якобы слишком сложная для ума обычного пролетария, далась, потому что ему помогал марксистский метод. И я не прославляю лично товарища Холопова – ты не один такой, Андрей Игнатьевич, – повернулся он дружелюбно, однако не снижая тона, туда, где должен был стоять Холопов, но там облокотился на балюстраду Груднев, вздрогнувший и защитивший рукою ухо от Максимова ора. Максим, по-моему, и не заметил (или не пожелал заметить) промашки. – Я говорю вообще не о товарище Холопове! – хохот разразился уже отчетливо, Груднев слегка раскланялся иронически. – Я говорю о каждом из вас. О рабочем, привыкшем трудиться в цеху, но ради помощи строительству разделяющем труд землекопов и плотников на открытом воздухе. О крестьянине, мастере плотничьего ремесла, забывшем про гармошку и соху и влившемся в пролетарский коллектив. О том крестьянине, который приехал немного разжиться деньгами на строительство, но которого невольно затягивает общий вдохновенный подъем. Любому из вас коммунистическая партия открывает возможности достигнуть того, чего достиг товарищ Холопов!
Логически речь Максима была несуразной, хотя я обратила внимание на ловкие обороты, вроде «примкнул к большевикам» – Холопов получил партийный билет в 1918-м, насколько мне известно. О революции будто было сказано, хотя и обиняками, и не сказано: Холопов в ней не участвовал. Но я не могла не видеть, что ни логические неувязки, ни хитрости, ни две подряд невольные ошибки нисколько не лишили речь Максима будоражащего эффекта. Толпа аплодировала, шумела, одни горячо говорили что-то другим, кто-то почему-то голосил: «Товарищ Хек! Не подведем!» Максим поднял руку, и строители примолкли.
– Холопов, конечно, не Бокалов. – Внизу дружно рассмеялись, поскольку это должно было прозвучать шуткой. – Но мы не позволим злорадству поселить в наших сердцах недоверие к инженерам и администраторам непролетарских корней. Заслуга Холопова в том, что он, не сдаваясь, следовал за своей мечтой. А борьбы без мечты не бывает! Заслуга Бокалова, заслуга почтенного нашего директора финансового отдела Николая Афиногеновича Груднева, – не знаю, как снизу, а я ждала, что он повернется к Андрею, – в том, что они преодолели узкие рамки мировоззрения своего класса и свою науку отдали революции, которая, товарищи, не окончена, которая, товарищи, продолжается. Мы сжимаем древки лопат, как прежде сжимали винтовки, идя на Колчака и Врангеля. Мы сознаем, что наша нынешняя борьба – продолжение той борьбы, наша борьба со стихией, наша борьба за пятилетний план и за ускорение темпов работ. Потому что, товарищи, – он заговорил потише, и вовремя: у меня от солнца и воплей заболела голова, Холопов как-то сник, – открою вам секрет: мы сооружаем не просто гидроэлектростанцию и не просто паровозный завод, мы своими руками, – и голос нестерпимо взвился, – строим социализм!
Рев и хлопанье толпы шибанули из котловины. Меня довело до полуобморока такое буйство человеческих звуков. А предстояло еще спуститься к ним, регламент «незапланированного» митинга предусматривал тесное общение с рабочими. Я была обязана сопровождать Максима с блокнотом и что-то как будто записывать в нем, хотя бы: «Да здравствует Муссолини».
– Они прекрасны, верно? – спросил меня негромко, почти касаясь губами моих волос, Николай Афиногенович. – Эти мощные молодые тела греческих атлетов пикантно оттенены полуистлевшим тряпьем, в которое они одеты, грязным потом, расчесанными прыщами, мазками бетона, гнилой воды и пыльной оболочкой. Между прочим, они не успеют пообедать, а некоторые уже в подпитье.
– Еще скажите, что в толпу подмешали клакеров.
– А как же? Обязательно. Результат всего магнетизма зависит не от речи оратора, а от заразительных эмоций, возбужденных ею. А заражение должно начаться с нескольких инфицированных.
– А вы не замечали, Николай Афиногенович, – вмешался Холопов, раздувая папиросу, – что человек в определенный промежуток времени может быть захвачен одной, и только одною страстью, или, попроще, ражем? Сластолюбец забывает о еде, предаваясь утехам с испорченной женщиной или даже хотя бы разглядывая непристойные открытки. Охотник, голодный, продрогший, ползет на животе по мокрому мху, чтобы подстрелить тетерева. А творческий гений, создавая симфонию или роман, не помнит ни о столе, ни о поле, ни об охоте – если он, конечно, охотник.
– Лишь в определенной промежуток времени, Андрей Игнатьевич. Сейчас их накормили красивыми вымыслами, но они очнутся, как от дремоты.
– Что-то запомнится. Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadente.
– Пойдемте за Максимом, – раздосадовано поторопила я.
И мы вступили в круг совсем иного языка.
– Максим Валентиныч, значит, что каждый лапотник по-нынешнему имеет право стать енженером?
– Тебя в енженеры, Михайло! Ты крестом подписываешь свою физиономию.
– Не ври, Матвеич, я не шибко грамотен, но однако же все ж не такое рыло чумазое, как шурин твой, чтобы арихметики не уметь.
– Тише, товарищи! – грозно и весело откликнулся Максим. – Михайло, ты не только право имеешь, но и всякую возможность выучиться и самому стройками командовать. А еще скажу, для сомневающихся, что это, Михайло, тебе не только право и возможность, но и прямой пролетарский долг – на инженера учиться. Нам нужны инженеры своей, рабоче-крестьянской кости. И ты, Матвеич, не шути. Ежели смысла моего выступления не понял, спроси у Михайлы, он, видать, побольше твоего соображает.
– А ты скажи, Максим Валентиныч, заступник, когда за сдельную заплотят? Я, может, за сдельную получу, да и махну во втуз.
– А я тебя признал, ты известный балагур, Сенька, что ли, по имени?
– Точно, Максим Валентиныч, Сенька Трофимов он! – выпалили восторженные голоса с разных сторон.
– Я тебе скажу, Сеня: когда перестанешь за рублем руки тянуть, тогда они у тебя умнее станут, а пока для втуза ты не годен, потому как малосознателен.
– Нет, а ты скажи, вона и финансовый дирехтор с тобой, за урочную получили, а за сдельную-то что же? Сверх положенного горбатились.
– Сеня, Сеня, кем тебе положено-то? Не пролетарий, ржаная твоя душа? Ну и поезжай к сохе да к буренке. Я тебя не держу, за тобой не погонюсь.
– Я, може, и поеду к буренке, да ты мне житие чертовой бабушки не рассказывай, или мне, что-ля одному за сдельную не плотят, а другие получили?
– Да ты балагур, для одной бузы трезвонишь, Арсений Трофимов, – улыбнулся Максим, отчетливо проговаривая имя и фамилию – чтобы я записала.
– Я для бузы? Ребят, да как же ж? Я за всех, кто на сдельную пошел, а вы молчите?
– А ты, Арсений, посуди, – важно захмурился старый плотник, с разделенной надвое бородой. – Партия тебе возможность – во втуз, на инженеров учиться, а ты с партии копейку дерешь, как будто и не смекаешь. Ну, когда бывало, чтобы не заплатили? Не буржуи, своя, советская власть, она тебе гарандия, что заплотят. Не заплотят – в райком шагай, своего добивайся, чай, не буржуи, своя властя, советская, значить, нашенская. Только не бывало, чтобы не заплатили. Вона, сам тычешь, финансовый дирехтор, ну и спроси-ка у него, у Николая-то Ахиногеныча.
– Трофимов? Как же, как же, – Груднев посмотрел полузакрытыми глазами, потом поднялись медленно крылья ночного мотылька, острые рыболовные крючки нестерпимо врезались в глазные яблоки «балагура». – Вы, Трофимов, поймите, не все деньги для расчетов по сдельной плате получены, и я, конечно, ради такого златоуста и красавца, как вы, – в толпе прыснули: Арсений был толтомордый рябой кривоногий парень, – могу пэрсонально с вами сегодня же рассчитаться, на вас, положим, денег хватит, да только неприлично как-то: вы получите ваше, а товарищи будут ждать. Рассчитываться – так со всеми, согласны, товарищи?
Гул подтвердил, а растерянный Сенька, похоже, начинал догадываться, что страшно уронил себя в глазах начальства.
– Я не подозревала, что вы владеете такой риторикой, – съехидничала я. Груднев чуть усмехнулся.
– Эх, Сенька, – услышала я на отдалении, – тебя в самые енженеры товарищ Хек зовет, а ты на шкурных сдельных рубликах срезался.
Бедные, бедные, бедные недоумки.
Из моей серьезной беседы с Грудневым, состоявшейся на следующий день после мнимо импровизированного митинга, возле Главного управления, особнячком, ничего не вышло. Я напрямую, напрямки, как принято ныне выражаться, ему в лицо: «Если вы продолжите оскорблять Алексея Ефремовича тем, что сторонитесь его, мне придется вас разоблачить!» – «И что же вы такое скверное во мне разоблачите?» – поднимаются веки, словно крылья ночного мотылька, а за ними льдистые серые глаза, цепляющие ржавыми рыболовными крючками. «О, не тревожьтесь. Ваши меньшевистские сентенции повторять не стану, я обещала, значит – не стану. Но о своей жизни в должности учительницы ваших сыновей я могу порассказать. О том, что вы эксплуатировали меня, пользовались моими услугами за одно право обедать у вас». – «Подумаешь, какие истязания. Идите, поведайте нашим работникам, одному из которых довелось ежедневно языком вылизывать до блеска сапоги белогвардейскому офицеру, а другого, батрака, хозяева называли не иначе как «Свиньей», и он пахал и косил по двенадцать часов за день, а его прогнали, не заплатив. Да если б и меньшевистские мои разговоры вы, Жанна Веньяминовна, огласили – тоже сенсация. Кто в 1918 году чего не изрекал. А что касается Постникова, то он внушает мне гадливую неприязнь. Попович, бывший идейный и политический противник большевизма, выслуживается перед ними, – о, я узнала это «ними»! – а каких он теперь воззрений, спросите-ка? Таких, что в партию его не берут, а он доискивается. Не за вами одной ухаживает, за Илоной Митрофановной тоже». Было бы неприятно и жалко, если бы оказалось, что Груднев прав. Но, про себя, ответила ему: «Не трогайте секиры, профессор Груднев».
Я нашла Алексея Ефремовича на складе, с руками в чернилах и машинном масле, которые он бережно оттирал какой-то тряпицей. «Вы любите меня, Алексей Ефремович?» – и он заторопился увести меня в безлюдное помещение, запер дверь засовом. «Да, я люблю… люблю, как путник в пустыне любит чистую родниковую воду, когда добредет до колодца». – «А Илону Митрофановну?» – «Я делаю вид, что ухаживаю за ней, потому что судьба моя зависит от Шотикова. Только он может поручиться за меня, дать положительный отзыв, если начнут задавать вопросы – вы понимаете меня». – «Не Максим?» – «Максим не при чем, я беспартийный, и мой начальник – Шотиков». – «Я не верю вам». И, как я и ожидала, Алексей Ефремович, на ящиках, застланных холстиной, удостоверил меня в своей любви. Я писала, что не хочу измены, но Груднев подстрекнул меня. «Не смейте приближаться к Илоне Шотиковой. Я не прощу», – сказала я, уходя.
Вызывали стенографисткой на какое-то внеочередное совещание. Я наврала, что буду, а знала, что не приду. Лежала с романом Федора Гладкова, это не Пильняк, конечно, однако увлекательно – и все же больше думала, чем читала. Он не спросил меня, люблю ли я его самого, спросил о Максиме. «Несколько лет как знаю, что не люблю, а до этого любила ли, не любила – не могла решить». Может, он считает, что с его стороны вопрос о любви – требование. Может, он считает, что не имеет права требовать. Милое, немного уже обвисшее, розоватое лицо, поблескивающее очками. Но мужчина обязан требовать. Иначе он оскорбляет женщину.
Вечером Максим вернулся выпивший, хотя и не сильно, растревоженный, изможденный. От какой-нибудь толстоногой крестьянки, подумала я, но он заговорил:
– Сегодня в мартеновском цеху на паровозном заводе обвалился кран. Искали, недосчитались каких-то болтов и гаек. Механики, конечно, сразу про износ машины – так они всегда, а болтов и гаек не доищемся, надо будет сигнализировать о диверсии. И кругом чертовщина творится. Деньги нужны – обнаруживаем, что нету. Нужны инструменты, материалы, детали, топливо – не хватает. Заказываем одно – получаем другое. Повсюду воруют, все, повсюду, сезонники хоть полотенце, хоть рубаху, да припрячут, а новую выдавай. У рабочих и того похуже. К стройке присосались какие-то невидимые маклеры, покупают у рабочих листовое железо, те же болты и гайки, кирпич. Ну и что ж – платим мало, рабочие крадут, ежели им незамедлительно предлагают сбыт. Незамедлительно. Знаешь, я начинаю подозревать Груднева.
Я угадала тяжелую сосредоточенность, знакомую мне. Надо было подождать, пока она не преобразуется в горемычное паясничанье.
– Бокалова жалко. Мало того, что понизили – из заместителей главного начальника перевели в заместители начальника стройки завода. Тут же на этом заводе обрушивается кран. Двоих покалечило, а одного наповал. Но я не верю, что Бокалов из бездумной ожесточенной мести вывернул болты. «Оно и такое случается, Максим Валентинович», – мне гэпэушник-то[1]. Хотя, признает, и редко, и не в характере Бокалова, по вашим, Максим Валентинович, вашим словам. Неимпульсивен. Прекрасное определение, а я-то всё раньше гадал, каким эпитетом его припечатать. Неимпульсивен. А тоже. Свинчивали какую-то штуковину на гидростанции, вроде здорового кронштейна, по чертежу Карелина, Карелин пришел, еще Полищук – не под тем углом, твердят, ошибка более чем в половину градуса. Надо разбирать и свинчивать заново. Прораб выпучивает глаза и сует чертеж. У Шотикова посмотрели – чертеж Карелина верный, а у прораба словно подмененный. Откуда взялся, а? Ну неделю назад бетономешалка на паровозном треснула, износ машины, опять-таки, ну соглашусь, социалистическое соревнование, гнали бетономешалку сверх предусмотренных норм. А с краном как?
Это уже хныканье. Я отвечаю.
– Я убеждена, что Николай Афиногенович не стал бы организовывать ничего подобного, да и не сумел бы. Не он же из крана болты выкрутил.
– В том-то и дело, Жанна, в том-то и дело, что он или не он, неважно, а важно, что имеется сговор, я уверен, сго-вор. И я его вынюхаю, у меня не без своего метода, – но голос его пожухнул.
Я слыхивала о методах Максима: как запугивали сезонников, чтобы не разъезжались под осень, одного избивали долго при других, кулаками, сапогами; или как заманивали в кандидаты партии рабочих, а потом задерживали плату, поднималась буча – а они с подходом, ты кандидат? – не бузи и успокой товарищей, иначе из кандидатов мигом вылетишь. Метод называется: цель оправдывает средства.
Постучали в дверь. Я открыла, на меня плеснули солнечными отблесками очки. «Здравствуй, Жанна». – «Вас, Алексей Ефремович, видели опять с Илоной». – «Какая смешная ревность, Жанна. Ты должна еще многое обо мне узнать».
Я переоделась, и он повел меня к складам. Я сострила, что о том, что можно там узнать, я уже осведомлена. Алексей отмалчивался. И да, многое открылось мне. Прежде всего, я увидела Илону, раздобревшую, мягкую, вальяжную, с нежной кожей и накрашенными губами. Пальцы в перстнях. Потом я, наконец, поняла, кого она приобнимает за плечи. Я опешила:
– Рыдван? – вислоусый, бородатый, с мохнатыми бровями, постарел, похудел.
– Звали Рыдвановым, а нонеча десятник у бетоноукладчиков, Грибенко. – И вот его сокращенная исповедь: в Сырове Холопов, Гревский и Максим решили свалить на него вину за все беды – и город взят с большими потерями, и увлеклись экспроприациями, и против бандитов поход оказался неудачным, взяли одного слабоумного, а другого – своего же красноармейца, убежавшего по чужим амбарам и огородам шарить. А друг другу не верили, от каждого ждали – накляузничает на остальных. Тогда Холопов и предложил совместно подставить под удар его, Рыдванова. И его отозвали в Рязань, задержали до выяснения всех обстоятельств, а там пожурили да выпустили. Но после войны опять по какой-то блажи кто-то затеял разбирать «сыровское дело» и обнаружил, что был уже обвиняемый. Рыдванов тогда служил председателем парткома в одном железнодорожном депо, но связями обладал, среди близких к особе Троцкого чинуш, и все опять завершилось тем, что пожурили и не тронули. Но стали следить, а он, Рыдванов, за тремя нэпмановскими предприятиями стоял. И когда они на Троцкого поперли, прохватили и Рыдванова – советский капиталист, директор незримого треста. Из партии исключили, едва от суда увильнул. Потом таскался да мотался по разным торговым конторам, где какая сделка, а где и во временное правление усядется, а однажды наткнулся на Гревского. «Ты что же, и ты – советский капиталист? Меня едва не погубили вы, паскудники, но и тебя щелбаном по носу?» Гревский – тоже исключенный был, но не за Сыров, а за критику единой линии. Угораздило болвана с кувшинным рылом в калачный ряд. И Рыдван через Гревского восстановил знакомство с Холоповым и Максимом.
– Вы не смотрите так, Иоанна Вениаминовна, что я как будто наговариваю. Максима зазвали в оппозиционную группу, ему и хотелось быть повесомей там. Инженер-герой Холопов уже с ним, а мы – другие два ироя, один оклеветанный, а другой – жертва убеждений. Но кто-то их осадил, не стали выступать. Меня Максим сумел отослать подальше, чтобы среди крестьян агитировал, но агитировал согласно единой линии, тютелька в тютельку. А Гревского, я слышал, застреленным нашли во дворе дома, где квартировал.
Я поначалу замерла и слушала. Но были и другие посетители на складе у Алексея Ефремовича. Какой-то незнакомый, застегнутый на все пуговицы, бледный инженер с осанкой генерала, какая-то женщина, немолодая, усталая, блеклая, а потом появился Холопов. Они занимали заранее расставленные стулья, Холопов положил ногу на ногу и слушал с рассеянным и скучающим видом. Я всматривалась в лица, в глаза, слушая про злоключения Рыдванова.
– Ну, хватит, Рыдван, затыкай свою сказку, – вдруг неожиданным, тихим и безучастным, никому не адресованным, поскрипывающим голосом прервал его Постников. Я изумленно обернулась к нему. – С краном поторопился, лучше это обсудим.
– Так, Алексей Ефремович, с каким народом работаю. Договариваемся, чтобы завтра, исполнено через неделю. Договариваемся, чтобы через неделю – а он отчебучит завтра, ему на водку надо.
– Сами бы, Степан Данилович, и отвернули, если не можете на ваших молодцев положиться.
– Ладно тебе, Андрей, никто из нас не умеет обращаться с такими молодцами, кроме Рыдванова, – урезонил Постников. – А Бокалову все равно отвечать. И Максим Валентинович, в итоге, согласится, точно, скажет, больше некому. Нужен же пресловутый козел отпущения, и ему нужен, не только за кран, а мы сейчас прекрасно освежили память насчет того, как ведет себя Максим Валентинович в таких ситуациях. Вы извините, Жанна Веньяминовна, – он взглянул на меня водянистыми глазами, обнаженными от очков, и не глазами одними, всем напряженным, строгим лицом, какого я у него не видела. – А вас, Полищук, сердечно благодарю. Продуманно и умело. Все на Бокалова не спишешь, ему в пару Груднева дадим.
– Не забывайте мужа! – засмеялась Илона Шотикова злобно.
Не могу больше писать. И устала, и ощущение, что всё сгущаются передо мной и наползают липкие клочья мокрой, пыльной паутины и тихо льнут ко лбу и к телу, жутковато и гадко.
Я спросила Алексея, почему он уверен, что я не выдам. Он ответил: «Я и не уверен». Но я должна до конца написать о том, что слышала и видела. Должна? Позвольте, перед кем? Не могу уразуметь. Возможно, закончив рассказ о встрече на складе, я пойму то, о чем спросила Постникова: почему не выдаю и не выдам его и других заговорщиков.
Осанистый бледный инженер приходился сыном тому Полищуку, который был подчиненным мужа в Сырове. Он подменил чертежи на гидростанции, да и сам Карелин, как полагает он, Полищук, обязательно присоединится, стоит лишь оказать ему доверие.
– Наша задача не столько в том, чтобы помешать своими силами выполнению их пятилетнего плана, сколько в том, чтобы подтолкнуть крестьян-сезонников и рабочих на бунт. В близлежащих селах и городках наши ячейки подстрекают недовольных. Поэтому я надеюсь, что мятеж не ограничится территорией завода. Многие сезонники, взбунтовавшись, уедут в свои деревни и там попытаются поднять возмущение, от одного страха, что коммунисты им отомстят за бузу на строительстве. Но как бы ни ширился бунт, загодя следует быть готовым к тому, что его подавят, кроваво, жестоко подавят. Поэтому нам необходимо позаботиться о том, чтобы нас не обличили как виновников. Вернее, это касается вас, а не меня. Я, министр Народного правительства Центральной республики, уничтоженной большевиками, напомню им о себе, я намерен открыто возглавить восставших, и не буду одинок – я жду друзей из-за границы. Но, поскольку восстание будет подавлено, а наша деятельность не закончится на этом, я очень заинтересован в том, чтобы вы сумели сохранить репутацию. Бокалов или Груднев сейчас годятся на роль вредителей – для Максима Хека, для гендриковского райкома. Но вышестоящие коммунисты не удовлетворятся подобными незначительными фигурами, если, как мы надеемся, разразится массовый мятеж. Заранее скомпрометировать Константина Шотикова – одна из наших задач. И помощь Илоны Митрофановны драгоценна для нас, – Алексей посмотрел на меня.
– Я ненавижу своего мужа! – пылко выкрикнула Илона. – Каждое его лягушачье прикосновение оскверняет меня. И тут не женский каприз, поверьте. Я ненавижу его с самого начала нашего брака. Я вынуждена была принять его предложение, потому что боялась голода, лишений, Чека. Я желала достойной жизни в безопасности, и расплатилась за нее с Константином плотью – но не душой. Душой и разумом я продолжала быть эсеркой. Константин – приспособленец. Никогда никаких принципов у него не было. Он смеялся над принципами. Он утверждал, что верит в физические законы, а не исторические: природа не терпит пустоты в желудке.
Кое-кто ухмыльнулся.
– И на этой стройке он крадет, как воровал и прежде, едва занимал положение, позволяющее присваивать казенные деньги. У меня припрятаны кое-какие документы.
– Шотиков облегчает наши задачи, – заметил Холопов. – Что до меня, то еще во время Гражданской войны, уже коммунистом, я уверился в несостоятельности марксизма. Его посулы – обман невежд, а я, рабочий, был невежествен. Раскрыв обман, я размышлял над тем, что мне открылось. Истинная цель марксизма – власть. Похоже на ницшеанство? Да, ницшеанство. И борьба за власть, которая началась между преемниками Ленина, подтверждает мои выводы. Не представляете, наверное, как горько и противно выдвиженцу сознавать себя телятиной, простаком, обманутым понаторевшими шарлатанами. Я рисковал жизнью под их знаменами…
– Мой отец погиб под их знаменами, – мрачно отозвался Полищук.
Словом, я стала заговорщицей, не приемля для себя возможности предать Алексея, Холопова и других.
– Потому что вы их ненавидите и всегда ненавидели. Трудно не заметить, когда ненавидишь сам, – объяснил в следующую встречу Постников.
Вероятно, Постников прав. Но накануне я предупредила Груднева. Напишу позднее о нем, пока хочу поразмыслить над всем происшедшим.
Села за дневник только нынче, спустя два дня. Итак, наиболее важное, вероятно. Я постучалась в дверь коттеджа, занимаемого Грудневым. Мне открыл молодой южанин, юноша с миндалевидными девичьими глазами, слишком красивыми для мужчины.
– Я хотела бы увидеть Николая Афиногеновича.
Юноша безмолвно повел меня за собой. В светлой комнате, уставленной горшками с растениями, многими – цветущими, Груднев сидел за столиком, на котором стояла чашка чаю.
– Здравствуйте, Жанна. Принеси винограду, Али, – улыбнулся он южанину.
– Как ваша семья, Николай Афиногенович?
– Сыновья выросли, жена умерла, я свободен! Но почему вы спрашиваете о семье? Из-за Али?
– Простите. Я неплохо пишу по-русски, неплохо произношу… но иногда в разговоре недостает пригодных слов. Например, чтобы начать.
– Начните с того, что хотели сказать, по какому случаю и навестили меня.
– На стройке есть группа вредителей. Они уже совершили много нелепого и страшного и совершат еще. А Шотиков ворует, и поэтому они на вас, как заведующего финансовым отделом, и на Бокалова хотят свалить вину.
– Как заведующий финансовым отделом, я знаю, что Шотиков ворует. А вредители – я догадывался, но меня печалит, что мои догадки подтверждаются. Ослепленные люди, жертвующие чужими и своими жизнями ради призрака несбыточной свободы.
– Когда-то вы побаивались Бонапарта, который будет наполовину Батыем.
– Я нисколько не побаивался, я предсказывал – и похоже, мы близки к тому, – Али, послав мне улыбку сомкнутых полных губ, поставил на шахматный столик посеребренный поднос, осыпанный виноградными гроздьями.
– И вы спокойны?
– Вы читали Шопенгауэра, Жанна? Он писал, что жизнь владеет нами, как тупая сила, движущая нас к одному: к продолжению рода. Индивид ее не интересует. Некоторые добавляют, что человеческий дух – болотная фосфоресценция больной, гниющей плоти. Я продолжил род и, видимо, как лосось, оплодотворивший самок на нересте, заживо загниваю. И болотные огоньки духа привлекают меня. Я не верю в материальность мира. Я вижу, как за кромкой материи начинается бесконечное чистое бытие, назовите его духом или иным приблизительным словом. Таковы мои болотные огоньки.
– Я не понимаю. Вас арестуют, возможно – будут пытать, убьют.
– У меня пошаливает сердце, и полагаю, пытки я не выдержу. Но, впрочем, не будем думать об этом.
– Вы готовы умереть?
– А вы готовы превратиться в лягушку или камень?
– Вы только что сказали, что не верите в материальность мира.
– Ну, некоторые права материя все-таки имеет, как вместилище духа, допустим. И вы не можете превратиться в лягушку или камень, и даже если ваши атомы пойдут на устроение лягушки, то вряд ли можно доказать, что это будете все еще вы.
– Я не понимаю вас.
– Я ответил вам неоспоримым тезисом, что вы не можете превратиться в лягушку или камень. И точно так же, по аналогии, не можете умереть. Как и я.
– Получается похоже на «Апологию Сократа», но в практическом смысле, простите, мало утешает. К примеру, а как же Али?
– Найдет себе другого покровителя. Его красота пребудет благоуханна еще не год и не два. И опять же, призываю вас не думать об этом.
– Вас обвинят облыжно в организации диверсий.
– Слишком прямолинейная логика, Жанна. Я лучше вас представляю, что такое наше стройка. Разгильдяйство, профанация и бестолковщина. Как, по-вашему, с кого у них спросится?
– Готовят вашу голову.
– Ерунда, моя голова не имеет цены в политической борьбе. Я беспартийный старик, и только. Даже не инженер.
– Как же так? Как же так? – заходила, едва не забегала я по комнате. – Они хотели свободы.
– Еще одна неудачная революция, – пожал плечами. – Припомните Луи-Филиппа, Наполеона III, Коммуну. – Он помолчал и заново начал брюзгливо. – Сядьте, Жанна, не мельтешите. С чего вы взяли-то, что они хотели свободы? Вы хотели свободы, я хотел, но они хотели власти, а другие – подчинения. Тяга человека подчиниться достойному хозяину сильнее тяги к свободе. Недостойного, Людовика XVI, Карла X, Луи-Филиппа, свергают и берутся за водворение достойного. А слова про свободу – для мозгляков, интеллигентов, народных мыслителей. Паситесь, мирные народы, вас не разбудит чести клич. Механика несложная.
– А Пугачев?
– А Пугачев закончил на эшафоте.
Я ушла к себе как сломленная, но в то же время видела маячащие проблески света. Что-то объяснялось, связывалось, хотя и не так, как связывалось у Груднева.
Забрели сегодня с Алексеем далеко вдоль ленивой реки, туда, где грохотанье строительства не слышно, прилегли на густой траве над косогором.
– Почему вы ввязалась в такую авантюру? – я продолжала к нему обращаться на «вы», кроме тех минут, когда мы отдавались друг другу.
– Трудно объяснить. У нас в правительстве Центрально-Русской республики были большевики, эсеры, анархисты, один меньшевик. И всех арестовали. Премьера нашего поставили к стенке. А мы создавали отряды для борьбы против белогвардейцев, снабжали Красную армию. И вот меня допрашивали, без побоев, интеллигентный парень, но допрашивал как врага, как пойманного разбойника. Я не понимал своего положения, меня волновало, кому передать документы моего министерства, лишь со временем я сообразил, что для них никакой Центральной республики, никакого министерства как будто не было. Услышал: «Васька! Тащи министра финансов к Егорову, а то иностранных дел залежался в лазарете». Тогда рассыпалось что-то. Не во мне, а как бы снаружи. Мое представление о том, каким меня воспринимают. Мне казалось – политиком, крупным администратором. Ерунда. Они посмеивались над этим, как над детской игрой. Но с высоты какого размаха? И заметьте, Жанна, им проще было запомнить нас по нашим должностям, хотя бы и мнимым для них, нежели чем по именам и фамилиям – как если бы позволяли себе в шутку развлекаться нашей игрой, настолько ее презирали. Четверых судили, а меня и судить не стали. Иди куда пожелаешь, гражданин Постников. Но это, конечно, не объяснение. Они принимают всерьез только себя. Уже тогда принимали, когда еще не победили. Какое-то адское высокомерие, ощущаемое как простая истина. Но для них она простая, а для меня была непостижима.
Я не хотел иметь дела ни с Блюмкиным, ни с другими прежними товарищами по эсеровской партии. Нашел одного большевика, вместе служили в московской Комиссии по охране здоровья. Он устроил меня мелким чиновником в государственный трест. Напутствовал: «Сидите, Алексей Ефремович, тише воды, ниже травы». Я и клонил голову ниже тоненькой былиночки. Я статистик, кое-что выписывал для себя. Я знал, что лозунги, речи на демонстрациях, передовицы в газетах – ложь, но у меня накапливались неподкупные доказательства: цифры. Невероятно, как несложно было, даже сравнивая цифры из газет, обнаружить неприглядную действительность. Но никто, ни один читатель газет не вдумывался, не подсчитывал. Или вдумывались, подсчитывали, всё понимали, а говорили по трафарету совсем другое, даже если критиковали партию. От одного уходили: что кругом сплошное разливанное море бесстыдной лжи и что страна совсем другая по сравнению с тем, о чем трубили на митингах и в газетах. Но мы познакомились в тресте с Холоповым. Ему тоже хотелось откровенности, и скоро мы скрытно беседовали о том, о чем другие предпочитали помалкивать. Мне показалось: умнейший человек, среди прочих-то. Он называл себя «разочарованным марксистом», его клонило в философию, доказывал теоретические ошибки, а я ему отвечал обыкновенно цифрами. Однажды он сказал: «Взаимосвязь индивидов как сознающих единиц не выше, а ниже, устойчивее, основательнее классового эгоизма, поскольку сознание себя частицей класса уже предполагает таковую взаимосвязь, а не наоборот». Получилась одна из ключевых посылок нашей платформы. Классовый эгоизм, борьба классов – лишь умозрительное, теоретическое утверждение, легко опровергаемое, если посмотреть не сверху, а снизу, от «взаимосвязи индивидов» как базиса. Я обдумывал часами подобные мысли. И пришел к тому, что «пролетарское классовое сознание» – иллюзия, как внушенное гипнотизером сознание себя курицей или монархом. Их адское высокомерие – отсюда, от фантастического осознания себя.
Но фальшивое самосознание должно же лопнуть. Надо уколоть его иголкой. И поэтому Алексей Ефремович постарался получить благодаря старым знакомым место на большом строительстве и там «кольнуть» рабочих и крестьян, чтобы они обнаружили, как их, нищих, провели. Взметнуть возмущение, бред, пожары. Его бы не назначили выше главного кладовщика, но кладовщик – великая сила. Просят того-то – отвечаешь, кончилось, не завезли, хотя бы оно и лежало поодаль. Просят другого – подсовываешь дрянь какую-нибудь, а если придерутся, отвечаешь: такое прислали, поглядите накладные. А кто накладные писал? Писал писачка, а звать его собачка. Докладываешь: такое-то на исходе, его заказывают, хотя бы с Урала, разоряются, а такого-то уже и не нужно. А всё для чего? Для того чтобы клинья вбивать между работниками и начальствующими лицами. Заняться должно с крестьян-сезонников. И тогда раскачка, выворот и погром, анархия. Они с Холоповым поняли еще в Москве: какой бы порядок ни учинился, всегда будут высшие и низшие. Только беспорядок позволяет надышаться свободой. «Свобода – парадокс: абсолютная свобода оказывается невозможной, ограниченная – не свобода». Но люди, еще не отравленные миазмами упадочной культуры, проступят в крестьянах и в рабочих, которые на девять десятых – те же крестьяне. «Культура должна быть растоптана конями варваров, поскольку она измельчала, исподличалась, гадко омертвела и оковала жизнь». Одного мятежа для этого мало, но постепенно начнется оползень к варварству, к дикой степи. Для варваров нет парадокса свободы.
– Откуда следует, что вы хотите, чтобы нищих снова провели? Парадокс свободы ими не осознан, но его историческая сила проявит себя, – мои слова охладили на минуту-другую Алексея, он замолчал, а потом я услышала тихий, никому не адресованный, с легким поскрипываньем голос:
– А без обмана не бывает. Масса свободно выдвинет себе Чингисхана, Аттилу, который ее постепенно поработит. Вы рассуждаете о свободе так же, как барышни о счастье: вот оно наступит. Но счастье не постоянное, а мгновенное состояние, как и свобода. Нищих соблазнили лживым, невозможным непрерывным счастьем, поповским райским блаженством в кущах коммунизма. Но никакого коммунизма никогда они не получат, а будут изнемогать, подобно ослу, плетущемуся за охапкой сена, которая движется вместе с возком, который осел и тащит. А свобода – вот, под рукой, бери и пользуйся.
– И с вашей свободой то же самое. Она – порыв. Но движущиеся к ней потянут за собой возок, нагруженный ограниченьями, потому что свобода не под рукою, свободу, даже относительную, добывают, как известно, в борьбе и, главным образом, в борьбе с самим собой.
– Вы отгораживайтесь трюизмами, Жанна.
– Вся жизнь состоит из трюизмов, – я едва не добавила, что Алексей Ефремович путает свободу со своей могучей волей министра в эфемерной Центральной республике и, вероятно, желает и при Аттиле стать министром. Но было больно и стыдно за него, за его унижение, если бы сказала, и я предпочла приткнуться головой к его плечу. – …и всегда сама себя оправдывает.
Вечером Максим равнодушно сообщил мне, что Бокалова увезли гэпэушники. Прокомментировал вяло: «Балаган с петрушкой».
Сегодня узнала – арестованы Холопов и Полищук. Передали записку от Алексея, что встретимся, хотя для меня рискованно, в молочной березовой роще у околицы нашего поселка. Он бежит за границу. «Я пришла сказать, что никого не выдавала». – «Женщина не предаст любящего ее мужчину ради нелюбящего, – он усмехнулся. – Мало времени, Жанна. Я бы предложил бежать со мной, если бы помоложе был. Но мое будущее категорически неопределенно. Вам я советую, однако, тоже не мешкать. Возвращайтесь в сладостную Францию. Сами видите, какая дребедень. Такие, как я, как Холопов – для затравки. У меня неистребимое ощущение, что была провокация, и Холопова заманили сюда. А дальше примутся за таких, как Шотиков и как Максим». Поцеловались и простились. Даже и теперь он не спросил, люблю ли я его.
Я сказала Максиму: «Извини, но больше я не могу с тобою жить. Уезжаю в Москву. Не преследуй, не пытайся вернуть, тебе самому не нужно». Он усмехался растерянно и жалко. «Ты из-за Илоны, что ли? Брошу я её». – «Я из-за себя», – оборвала его я.
В Москве я должна задержаться в нашей квартире, пока не найду комнату. Не могу избавиться от мыслей о строительстве, о заговоре. Илона – любовница Максима. Если она двурушничает, то это объясняет арест Холопова и Полищука. Алексей чувствовал, что была провокация. Но если провокатор – не он, не Полищук и не Холопов, то кто? Илона сама не сумела бы. Я вспомнила Сыров, а потом – историю с несостоявшейся оппозиционной группой. Рыдван, а за его спиной – Максим. И все издержки, все огрехи, и воровство Шотикова, и всеобщие постоянные кражи по мелочам, и всё прочее списать на министра Центральной республики и заговор спецов.
Встретила Наталью. Она сытая, румяная женщина, хотя и морщинки уже заметны. Жена «торгового служащего», некоего Коклюшкина. Обрадовалась, что может помочь: у них в квартире умерла жиличка для уплотнения, и она договорится, чтобы комнату предоставили мне.
Я перечитывала и исправляла дневник, когда в дверь Коклюшкиных позвонили. Услышала спекавшиеся шумы голосов – женского и мужского. Наталья, у которой было словно окаченное и смытое лицо, вошла ко мне, пропуская высокого человека средних лет, с глазами-семечками и нежной льняной бородкой.
– Гражданка Вике, Жанна Вениаминовна?
– Моя фамилия – Хек.
– Да, супруга товарища Максима Хека. Хотелось бы наедине. – Наталья ушмыгнула, как будто нетерпеливо ждавшая этих слов.
– Максим телеграфировал мне. Просил позаботиться.
– Позаботиться?
– Ясно, да. Вот снимаете комнату, а у самой квартира на Пресне, двухкомнатная с вестибюлем и кухней. На имя Жанны Вике.
– Простите, а ваше-то имя как?
– Сергей Невзоров, просто Сергей. Комиссариат внутренних дел, – что-то в нем мелькает мефистофелевское.
– Вы знакомый Максима?
– Ясно, да. Предупреждаю, мебели там маловато. Заглянул сегодня. Но мы побеспокоимся, меблируем. Вот, – он положил на прикроватную тумбочку конверт, – и адрес, и ключ.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Максим и Сергей взволнованы. «Ты знаешь, что Постников в Германии назначен заместителем уполномоченного по делам русских эмигрантов?» Откуда бы я знала. Но вы с Константином Шотиковым, напоминаю ему, доблестно разоблачили заговор вредителей, и Постникова в их числе. Выясняется: у Шотикова очень шаткое положение, обвиняют в «правом уклоне». «Какой-то балаган с петрушкой». Но хуже всего Максиму, потому что выше всех поставлен. Я смотрю на Сергея с его пушистой белокурой бородкой, и мне опять мерещится нечто мефистофелевское. Темный, снежный декабрь.
– Оформляем развод. Решено, – неожиданно твердо говорит Максим, и я вижу, что он не комедиантствует и не впал в глухую серьезность. Говорит бодрым, помолодевшим голосом. – Ты должна вернуться во Францию.
Я хохочу.
– Тебя попрекнут женой-француженкой, что ли? Смотри, от тени не убежишь, если она твоя.
– Дура ты. Вроде бы – ну, сколько лет у нас прожила, и всегда мне казалось, что начинаешь понимать, но хер, ничего не усвоила. Мозги у тебя не по-человечески, что ли, сделаны? Если захотят попрекнуть тобой – какая разница: развод, не развод. Я о тебе одной забочусь. Ты сможешь уехать! Это главное.
– Погоди. С кондачка-то. На что я буду жить?
– У тебя, зазнобушка, счет в «Кредит лионез», около семидесяти тысяч долларов золотом.
– Семьдесят тысяч! И всё? Итог и цена всего насилия, всех экспроприаций, крови, лжи, клеветы, предательств?
Максим смотрел ошарашено, будто не понимая, в чем его и почему упрекают.
– Да я взяток раздал на сотню тысяч! А как мы жили? А квартиры, дача?
Я уже не смеялась. Только что Максим почти возвысился в моих глазах. И вот из моего саркастического вопроса он сделал вывод, что я смеюсь над ним как над бедняком, как над обжуленным, что-то дешево продавшим. Даже для Шотикова мелкотравчато. Передо мной двигался манекен на электрической проводке.
– Ладно, Максим. Я должно по… обдумать.
– Только живее. Завтра, будем благонадежны, меня не сместят или, по крайней мере, не арестуют, послезавтра тоже, а там уже надо и решать, обрубить. Извини, машина ждет.
– С твоего позволенья, Максим, я понаслаждаюсь обществом твоей почти уже бывшей жены, – отозвался Сергей, удобно растягиваясь в кресле; иронические слова его содержали некоторое циничное пренебрежение.
– Хотите чаю? Не хотите? Ох, Сергей, объяснили бы вы.
– Охотно. У Максима все началось с Малхазянов. Выбивал какие-то вспомоществования молодым литераторам, а Малхазян продавал, – я шепнула, без голоса, одними губами «Я знаю», о себе, не о Максиме: меня тоже Малхазян и Шотиковы использовали, по доставке. – Малхазяна быстро взяли под микитки, сослали в рудник, перевоспитываться. Перевоспитался и вернулся, устроился советским служащим низкого полета, и так и скромничает доныне. Шотиков его подкармливал, за то, что не заложил. Но он, когда арестовали, выдал всех, и Шотикова, и товарища Хека, – опять скребущийся изнутри звук циничного пренебрежения: как жук в спичечном коробке. – Им, как мелюзге, не придали значения, однако фамилии – на бумаге, а бумага – в архиве, ясно, да. Потом невнятица с Рыдвановым. То ли он напортачил в Сырове, то ли он не при чем. А если он не при чем, то остаются: Хек, Холопов, Гревский, Полищук. Но Гревского потом обвинили в эсеровской идеологии за его докладец один. Припомнили Сыров и что Рыдванов и Гревский оба там хозяйничали. Опять же бумага – и в архив. И дале – оппозиционер Сафонов. Какие-то дела у Хека и Холопова с ним, а Гревский заодно. Утверждает, что пострадал за принципы. Сафонов, между тем, притих, заявил в письменном виде, что подчиняется единой линии и прочая и прочая. Кается, что увлек товарищей Холопова и Хека. Архив-то разбухает, тем более что Гревского нашли убитым. Кто-то стрелял из подворотни, когда Гревский подходил к дверям своего подъезда. И последнее – Гендриковский паровозный завод, со своей гидростанцией. Холопов и Полищук, а также бывший эсеровский деятель Алексей Ефремович Постников, обвинены в организации диверсий. А главы строительства – Хек и Шотиков. Начало увязывается с концом, особенно если учитывать, что работавший у Максима завскладами Постников нынче видный фашист, – он, похоже, не различал старшего Полищука и младшего. Я спросила:
– Если так, то почему же Максиму доверяли?
– Если на всякое назначение выискивать совсем незамаравшегося, Жанна Веньяминовна… у всех, понимаете ли, рыльца в пушку.
– И потревожили Максима, тем не менее, только сейчас.
– Ну, я мог бы отделаться фразами, обострение классовой борьбы, угроза войны, но по-свойски, Жанна Веньяминна, по-свойски – одно: Сафонова затеребили, левый уклонист, и другое: Малхазян разболтался. Максим заместитель народного комиссара, а канцелярская чернильная душонка хвастает, да он у меня на побегушках был, ворованной селедкой торговал, – Сергей становился положительно развязным. Я подошла к нему поближе, нагнула голову, негромко спросила:
– Я интересую вас как женщина?
– А если интересуете? – не смутился Сергей.
– Я пока еще замужем. За человеком, которому вы помогали и который может быть арестован. Vouz-comprenez moi, n’est ce que c’est? – и я вернулась к окну.
– Утопленник с собой не утащит, – улыбнулся Сергей, и в нем просверкивало его мефистофелевское. – Но я не буду добиваться вас угрозами. Сами попросите.
После его уход
а я не могла успокоиться, и лишь теперь, завершая запись, я ощущаю, что напряжение в груди и в плечах понемногу спадает.
На этом выдержки из моего дневника, достойные вниманья, завершаются. Максим не пал в 1935 году, и при выезде из страны я не должна была ни о чем «сама просить» Сергея. Сняли с должности Максима, как и Шотикова, в начале 1936-го, судили, но не знаю, к чему приговорили и как закончилась жизнь моего бывшего супруга. Из упоминания, в прошлом году, что «Максим Хек посмертно реабилитирован» – стало известно, что он мертв. И публикация выдержек из моих записок ему не повредит. Что касается остальных персонажей, то некоторые фамилии, как и географические названия, изменены мною. Не думаю, что кого-то будут преследовать, основываясь на моих записках, а если они и станут уликой против кого-то, я оправдываю себя тем, что все написанное – истина.
P.S.
Алексея Постникова сняли сами нацисты. Он умер в концентрационном лагере или бежал оттуда, неведомо. Прочитала на днях, что некий Степан Данилович Грибенко, эмигрант из числа «перемещенных лиц», разыскивает женщину, известную ему как Илона Шотикова, а также Илона Редько (Боецкая). Мир да любовь!