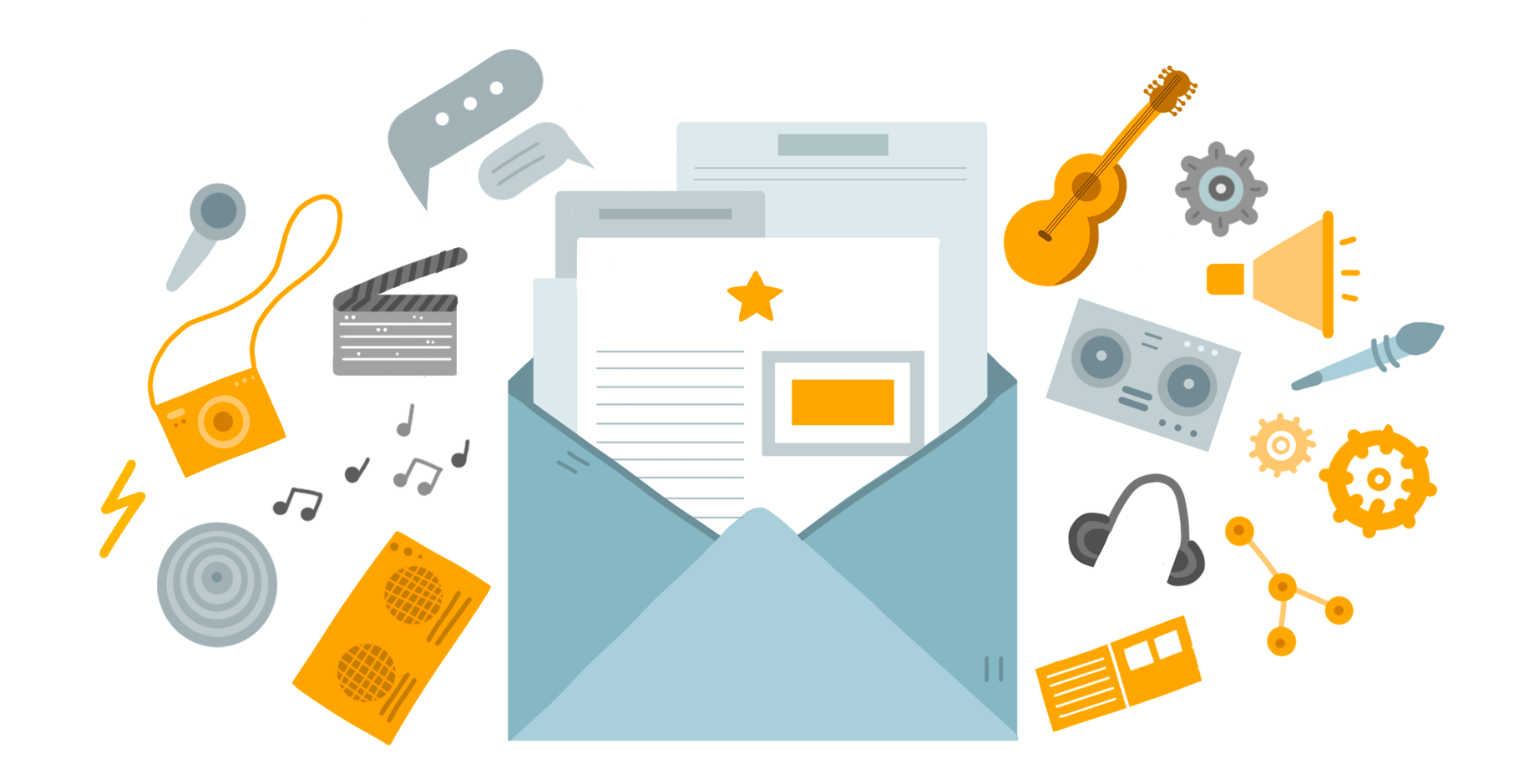В новой книге Игоря Лёвшина «Говорящая ветошь» собраны тексты и давних времен, и новые. Лёвшин – необычайно полистилистический автор, и в этой книге очень заметна его способность к конструированию разных поэтик и интонаций. Что-то кажется пародией на словоискательные подвиги авангарда, где-то преобладает рефлексия над языком и ироническое остранение, глубокую лирику обнаруживаешь в поэме, название которой вынесено в название сборника и т.д. Эту книгу «неудобно» читать: стихотворения скорее похожи на собрание дискурсивных отрывков, чем на цельное высказывание, а говорящий – то неявным образом проступающий, то вдруг исчезающий – будто перемещается на неисправной машине времени и случайно существует сразу во всех временах одновременно, передавая из них свои безумные приветы.
Сложные отношения со временем порождают неожиданную, как бы беспорядочную интертекстуальность: Веничка Ерофеев («и медленно выпил»), московский панк-рок («Москва – театр яда / с соломенными енотами»), Пастернак («Мело-мело/ как полкило»), Крученых, слеза ребенка, музыкальные аллюзии – очевидность, нарочитость таких отсылок отменяет чересчур бережное, сакрализованное обращение с русской литературой и формирует какие-то новые сюжеты. Лёвшину также свойственна особая ироническая рефлексия, охватывающая одновременно историю (не важно, прожитую или проживаемую) и язык:
думали:
«большевики ненадолго»
верили:
«ссср это навсегда»
но вышло:
рл эз
и убещур ...
Но в разговоре об этой книге особенно важно другое. Как поэт, Лёвшин обостренно чувствует неспособность языка к предельному выражению некоторого значения. В каком-то смысле это поэзия потерянного означаемого и, если идти до конца – потерянного поэтического. Стихотворение «Подвези меня, таксидермист», кажется, ровно об этом: говорящий задается вопросом «где» и перечисляет те слова, актуальность значения которых для многих стремится к нулю: «где токсидо-фрак? / в гробу из габардина? / кирасиры где?...». И дальше – ключевое:
где вообще слова?
где их значенья?
Эта логика утерянной семиотической основы подрывает привычные средства поэтического выражения: в строках из другого стихотворения, кажется, говорит уже не метафора, а ситуация неозначенности: «врач – белый грач / червя палач...»). Неозначенность есть и в «Сне», где субъекту снится нарочито бессмысленная фраза «оброк кадавра». Сон – ситуация алогичного, бессвязного существования, но фраза переносится в реальность, подвергаясь квазикритическому размышлению: реальность оказывается не менее ирреальной, чем сон.
Стихотворение «Подвези меня, таксидермист» проблематизирует и второй важный момент отсутствия (заключающегося не в описании, как в гоголевско-хармсовской традиции, а в самом языке): отсутствие времени и определяемой идентичности. Начиная с предложения «зашаталась времени времянка?» линейность времени подвергается сомнению: тексты отсылают к совсем разным литературным традициям, и сознание субъекта свободно перемещается между ними.
С другой стороны, играющий в прятки субъект этих стихов вовсе не неопределенное привидение, подающее голос как бы из ниоткуда. Здесь, несмотря на сложное субъектное расслоение на несколько голосов, создается впечатление расчётливости и точности, иначе многие тексты не были бы построены на сломе ожидания, на вторжении в язык какой-то неправильности: смысловой, ритмической, стилистической, фонетической и т.д.
Солнце и мороз
чудесный день
будущее в прошлое не отбрасывает тень
прошлое в будущее не отбрасывает тень
а просто солнце
и просто день
и все хорошо когда бы
не вонь ноосферы сгнившей
из-под земли ...
Вообще, у круга авторов альманаха «Эпсилон-салон», к которому относился Игорь Лёвшин, при всей разнице поэтик, были сложные отношения с означиванием. Эти авторы объединились в 80-е годы в поисках альтернативного литературного пути, не пересекающегося ни с официальной версией литературного канона, ни с неподцензурной. Такая позиция может вызывать недоумение у читателей текстов Николая Байтова, Александра и Михаила Барашей, Валерия Крупника и других авторов этого альманаха: оппозиция официальное/неподцензурное снимается, и становится непонятно, с какой литературой мы имеем дело. Сами же тексты, даже вынесенные из неоднозначного контекста своего существования, зачастую не имеют не только какого-то прозрачного и считываемого смысла, но и референта: возможно, это обратный эффект такого промежуточного положения, где нельзя определить какого-то «среднего» читателя. Тем не менее у Лёвшина, конечно, есть свой читатель (надо сказать, он вообще известный прозаик и поэт) – и хочется надеяться, что эта книга поспособствует привлечению нового.
Игорь Лёвшин. Говорящая ветошь (nocturnes & nightmares) /; предисловие О. Дарка. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 200 с. (Серия «Новая поэзия»)