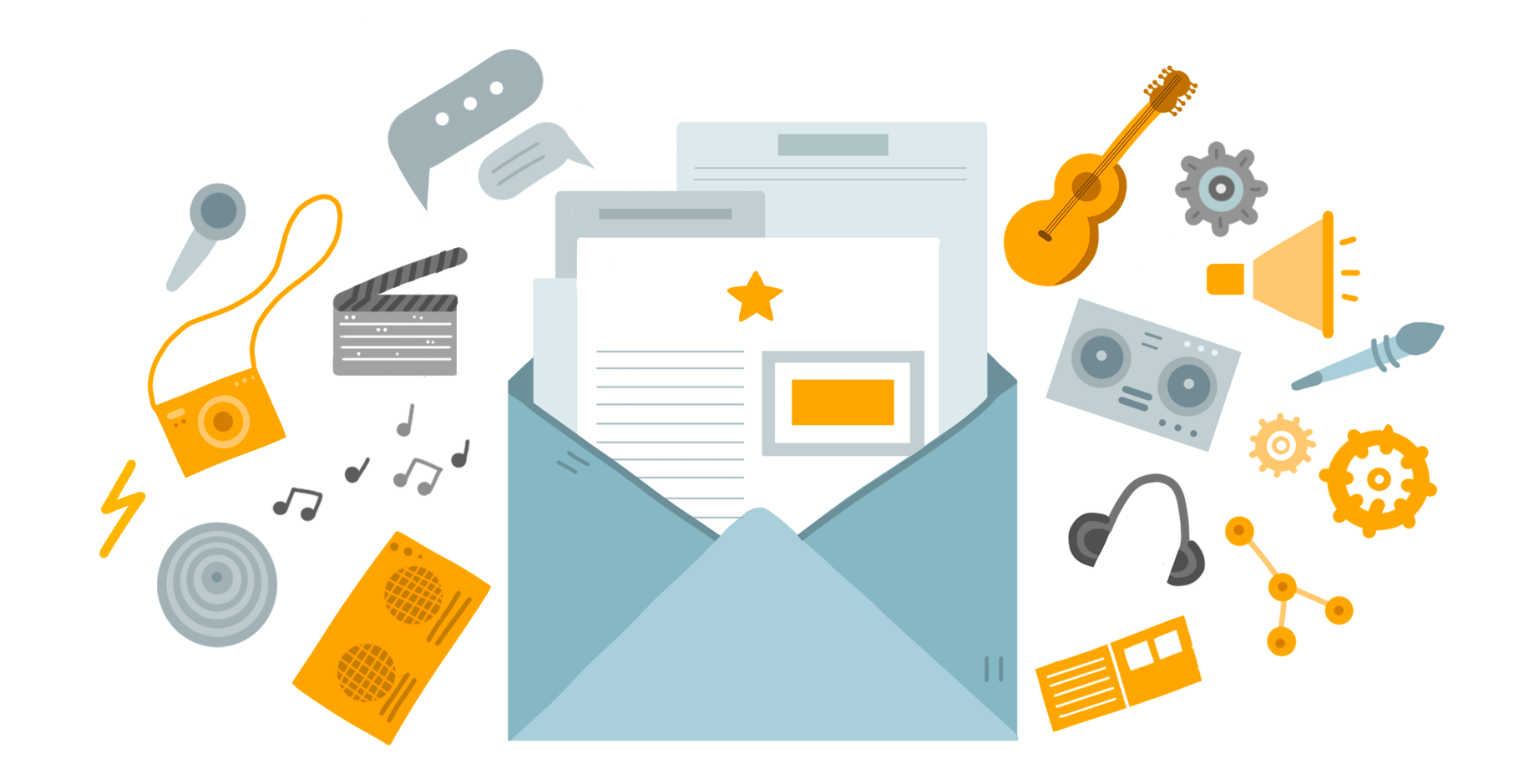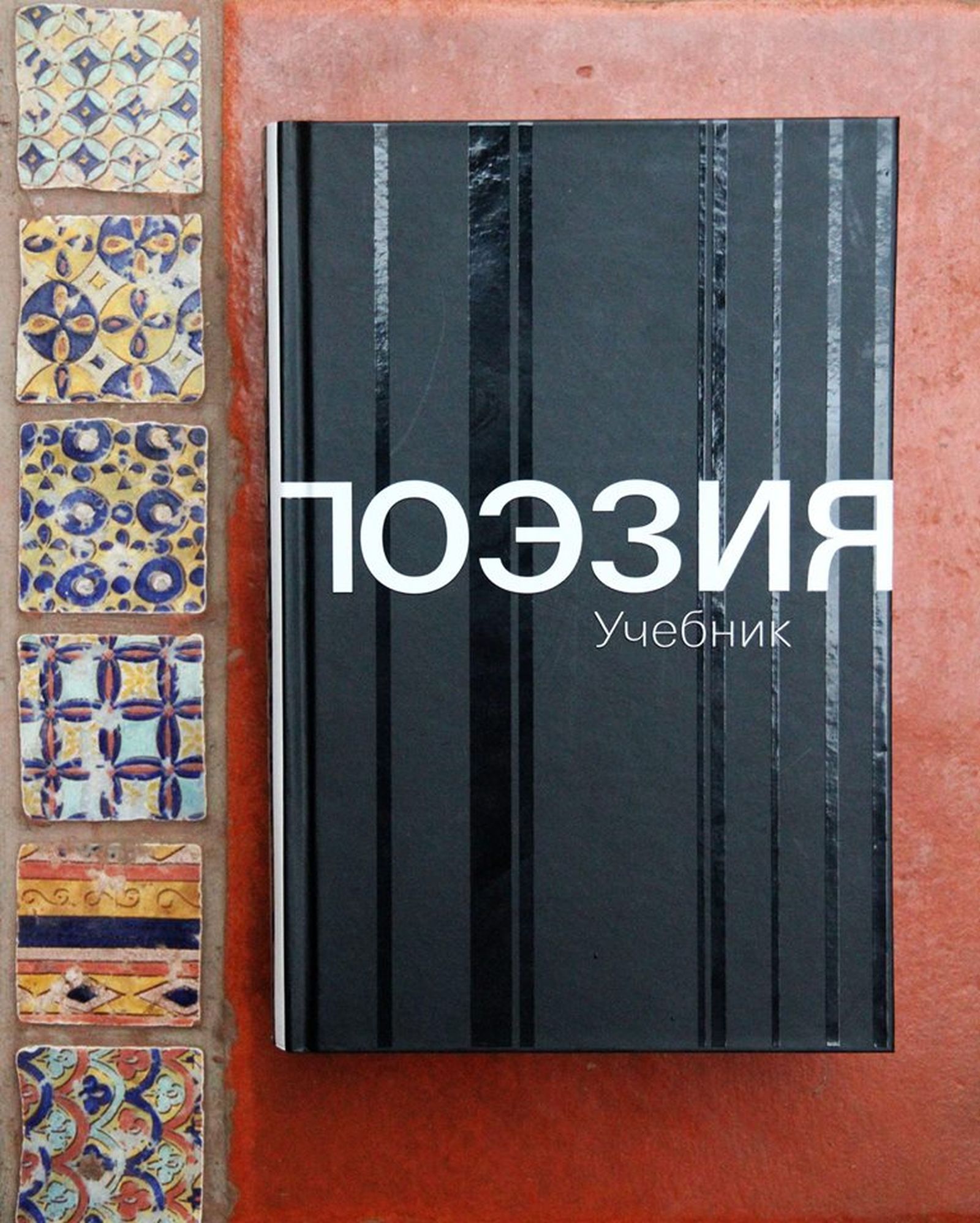Огромная книга (886 страниц) в стильном переплете, словно призванном показать значительность и серьезность предмета, о котором пойдет речь: большая белая надпись «поэзия» на черном фоне, подпись «учебник» и та же надпись, только черная и на белом фоне с обратной стороны.
Людям, знакомым с современным литературным и научным процессом, состав авторов скажет о многом: над учебником работали Наталия Азарова, Светлана Бочавер, Кирилл Корчагин, Дмитрий Кузьмин, Борис Орехов, Владимир Плунгян и Евгения Суслова. Кажется, что авторы поставили перед собой определенную сверхзадачу: они настраивают новую оптику, лишенную редукционистского предела, и предлагают всесторонний и подробный подход к изучению поэзии. На общем фоне некачественного литературного образования в школах, некомпетентности учителей, предлагающих советизированную логику познания литературы по учебникам о «вольнолюбивом Пушкине», и как следствие, тотального непонимания и отторжения выпускников от современной поэзии (не говоря уже о классической) эта книга выглядит важной вехой в современном образовательном процессе.
Издание учебника поэзии «Поэзия» показательно и в социологическом смысле. Среди авторов — известные поэты, включенные в современное литературное поле, знающие процесс изнутри и в то же время заинтересованные в распространении этого знания за пределы узкой литературной жизни. Учитывая привычное представление о том, что литературный процесс — что-то очень далекое от той жизни, которую ведут остальные граждане страны, такая тенденция важна: это первый шаг навстречу другому сознанию, шаг, который может сблизить нелитературную действительность с литературной. Установка на преодоление преград происходит и на другом уровне — причем преград не только психологических и социокультурных, но и текстуальных. Ведь любой учебник, в первую очередь, будет метатекстуальной книгой — здесь же происходит размытие строгих границ между метатекстом и текстом художественным: почти половину объема в учебнике занимают поэтические тексты, что делает книгу своего рода поэтическим сборником, в котором, в свою очередь, размываются искусственно навязанные школой границы между классической литературой и словесностью актуальной. Тексты разных времен сосуществуют на одних страницах, потому что поэзия — это живой процесс, происходящий сейчас и одновременно тогда, процесс со сложным хронотопом. Наряду с важнейшими «поэтическими» аксиомами, прописанными в учебнике, есть наиболее полно отражающая специфику поэтического текста — тыняновская "теснота и единство стихового ряда". В каком-то смысле учебник устроен по этому принципу: каждая глава дополняется не только предыдущей и последующей, но и любой, согласно вертикальной связи; каждый поэтический текст в воспринимающем сознании читающего учебник должен выстраиваться в широкую картину поэтического Космоса, что позволило бы актуализировать ранее возникающие смыслы.
О чем еще может сказать тот факт, что учебник посвящен именно поэзии? Это очередной сигнал о том, что поэзия сейчас отделяется от общего понятия «литература» и стремится утвердиться как самостоятельное целое со своими вечерами, кругами и эстетическими практиками. Она явно обладает большей силой и потенциалом — как авторским, так и читательским, чем проза — и данный учебник как бы подчеркивает эту тенденцию к поэтической самоустановке и размежеванию.
Учебник вводит сознание читающего в мир поэзии посредством слома привычного ожидания, демонстрируя преемственность и взаимопроницаемость литературных традиций. Где еще, если не в этой книге, на «почве» элегии сойдутся такие имена, как Баратынский и Парщиков? Где еще будет говориться об особенностях поэтик современных поэтов таким же тоном, как если бы речь шла о Пушкине или Тютчеве: "...философская и бытовая лексика встречаются друг с другом у Алексея Парщикова, Нины Искренко, Дениса Ларионова... стараются остаться в рамках ограниченного словаря Георгий Иванов, Геннадий Айги, Андрей Черкасов?".
Но проникновением в поле современной поэзии дело не ограничивается: авторам важен тот принцип, за который многие хвалили советское образование и порицают сегодняшнее — принцип широкого (а не узкоспециального) взгляда на действительность, знакомство с множеством культурных полей и, что особенно важно для этого учебника, компаративистский анализ поэзии с этими полями. Большая глава 19 "Поэзия внутри мультимедийного целого" посвящена этой проблематике: не упустили и тему перформанса, не особо разрабатывающуюся в обычных российских школах.
Интересно, что в таких сопоставлениях поэт и публицист Игорь Караулов видит важный недостаток: «Чего не видит „проблемный подход“? Как ни странно, поэтов. То есть, стихов в книге предостаточно, поэтических имен тоже, а вот поэт как личность в ней отсутствует». Этот упрек справедлив лишь отчасти — тут цель не как у монографии или книги серии "ЖЗЛ", а как у учебника, в котором множество имен, важных в первую очередь как имена "деятелей" литературы, а не личностей в полном смысле слова.
Выход учебника в свет породил в литературной среде споры: Дмитрия Кузьмина обвиняют в очередной попытке легитимизировать курируемый им сегмент современной поэзии, пустив на страницы учебника только круг "своих" авторов (журнала "Воздух"). Вкупе с упреком об отсутствии новой информации на страницах учебника (а значит, цель написания именно в стремлении выдвинуть "своих" поэтов в качестве центральных представителей от современной литературы) весь труд как бы обесценивается. Но ведь теория и история литературы просто так не меняется: понятно, что авторы опирались на работы Тынянова, Гаспарова, Хализева и многих других — другое дело, что почему-то не давали ссылок на источники, очевидные лишь филологам, а не старшеклассникам. А если уж так необходима новизна информации (как будто приведение в качестве учебного материала современных стихов не ново), то, пожалуй, информация со страницы 799 по 852 действительно уникальна. Из первых уст непосвященный человек может получить не только общее представление о том, как устроена современная литературная жизнь, но и подсмотреть что-то, что обычно скрыто от посторонних глаз.
Похоже, что главной проблемой учебника становится способ изложения материала. Авторы, которые обычно используют терминологически усложненное письмо, здесь пишут просто настолько, что в иных местах делается неловко. Первые курсы филфака уже читают учебники Н.Д. Тамарченко или И.В. Тюпы, со всеми их «двойякособытийными дискурсами», и такой текст вряд ли покажется им достаточно академичным.
Авторы — участники творческого процесса не отделяют себя от авторов — участников филологического, а вместе делают литературный учебник на пересечении научной и творческой составляющих. Это заставляет жизнь быть более динамичной: шевелить литераторов, склонившихся было уже к какому-то одному амплуа, порождать полемику, подключать к литературной жизни учителей литературы, прежде с этой средой не знакомых. Поэтому выход учебника «Поэзия» — это яркое событие 2016 года — как для литературной среды, так и для внелитературной.